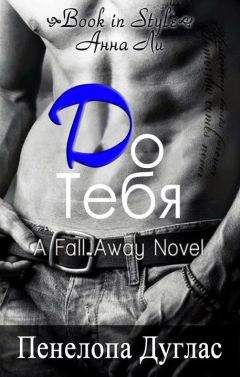Андрей Измайлов - Трюкач
Блеф – он и есть блеф. Да кто поверит?!
Кто?! А ты, Ломакин, поверил, что аж цельный взрыв в бакинском метро закатили, только бы тебя, любезного, грохнуть?! Ведь пове-е-ерил. Слишком высокого мнения о собственной персоне, Ломакин!… Но… почему бы не присобачить…
Эдак кто-нибудь из новоявленных-могучих хмыкнет ненароком: «Не нра-а-авятся что-то мне эти мексиканцы, ну не нравятся!». Хмыкнул и хмыкнул. А там, глядишь, через год землетрясение сотрет с лица Земли половину Мехико. Почему бы не присобачить?… И новоявленный-могучий год спустя многозначительно хмыкает: говорил же, помните, не нра-а-авятся! Хочешь, бери на веру. Хочешь, не бери. А новоявленный-могучий при чем? Что он такого сказал?
Ведь ничего такого, например, Слой-Солоненко не сказал. Разве он угрожал? Разве он не помогал? Разве он виноват, что его воспринимают… не… адекватно?!
Бестолковый был разговор, бестолковый. Мучительно стыдно Ломакину за тот разговор. И за себя. И за… всех. Включая, кстати, Слоя. Включая крошку Цахеса… Где эта гнида, кстати? Вот кого бы удавил! Шарфиком.
Он в Гетеборге. Он у Слоя был временно, он был на договоре. Он, кстати, так подвел Слоя, так подвел. Пусть Виктор Алескерович сам решит. Вот пусть решит – по совести если. Если по совести. Помните, Виктор Алескерович, он, Ровинский, предложил ему, Солоненко, и самому Виктору Алескеровичу…
Стоп!
Стоп. Да, мучительно стыдно за разговор. Но – не жалко. Слоя – не жалко. Тот же Слой сожрет Ломакина, если Ломакин очередной раз поддастся на эмоцию. Нормальную человеческую эмоцию: жалость. Ладно, болезный, пошли. Вместе выгребем. Вместе? Давай вместе! Только сегодня четверг, а завтра последний день. Долг – полмиллиарда. В перспективе – полмиллиарда не рублей, но долларов.
Эх-х-х-х!
Прости, Гурген. Жаль, тебя нет со мной – ты бы первый сказал: ну, Алескерыч, ты дае-о-ошь!
– Вы меня с кем-то путаете, уважаемый! Какой я вам Виктор Алескерович?!
– A-а… Что?! – Солоненко осоловел окончательно.
– Запомни, Слой, запомни, глупый! – Ломакин содрогнулся от неприязни… к себе. – Я – Гурген Джамалович. Наведи справки, слизь! Ломакина сегодня хоронят. В Баку. Несчастный случай… – еще содрогнулся. – Ты, слизь, РАЗУМЕЕТСЯ, ни при чем. Ну а я… тем более.
– Постой… те… Виктор Алескерович! Вы не знаете! Вы не все понимаете. Там такие СЕРЬЕЗНЫЕ люди. Вы не совсем представляете ситуацию. Я всего лишь рядовой сотрудник! Я всего лишь никто! Вы не представляете, Виктор Алескерович!
– Я представляю. Слизь ты. Всего лишь никто. Очень хорошо представляю. Эй ты, какой я тебе Виктор Алескерович?! Плохо усвоил? Я – Гурген Джамалович. Да! У меня в квартире почему-то валяется восемь трупешников. Четверо или пятеро – твоих. Чтоб я пришел и чтоб никого не было, понял?! Ты меня знаешь. Теперь знаешь. Я хоть и Гурген Джамалович, но по-прежнему правая рука азербайджанской мафии. Запомнил? Усвоил? Не азерботной, не арзибижанской, не зирбажанской. А-зер-бай-джан- ской.
Все это смахивало на банальную концовку банального боевика – в главной роли банально-бездарный Дудикофф.
– А пленочку-то не нашли, Евгений Павлович. У меня пленочка, Евгений Павлович. Далась вам эта пленочка!
Вот тут он, Ломакин, наконец-то блефанул. Дурные примеры заразительны. Не спросил, а на кой хрен вам кассета с бакинскими натурными съемками, что там такого уникального?! Сделал вид, что зна-а-ает, зна-а-ает…
И поймал высверк надежды в потухших было глазенках Слоя. Не все потеряно!
Все, Слой. Все.
Он, Ломакин, не без злорадства отнаблюдал, как вокруг «шестерки»-»жигуля» замельтешили топорно сработанные фигуры солоненковских бойцов. Всего трое? Ну-у-у… Он-то, Ломакин, вообразил было! Впрочем, до знаменательного разговора он чего только себе не вообразил.
А теперь проверился, бросив Слоя и большого Вову на произвол Барби, выйдя из кабинета и сочувственно объявив: «Им там поплохело, кажется…», после чего гульнул бесцельно по коридорам. Дал фору. Наткнуться на многочисленных сотрудников «Ауры плюс» не опасался. Чего опасаться-то?! Блеф! И тут блеф. Четыре кабинета – вот и вся «Аура плюс». Оказывается, всего четыре кабинета. За неконтролируемые фантазии посетителей администрация фирмы ответственности не несет.
Ну да, Волчьи Ворота: то ли волки голодной-ненасытной стаей через ущельевходили в город, то ли ветер гулял в ущелье с голодно-ненасытным воем…
Он проверился – в окошко: бойцы прохаживались вокруг да около «жигуля», ждали. Знал бы он, что все так… дешево, не стал бы поутру химичить с автотранспортом. Ну да если выбирать между угнанной «шестеркой» и СОБСТВЕННОЙ «вольво» – только полный идиот предпочтет «шестерку». Он, конечно, идиот, но не полный, но бывший.
Он, Ломакин, вышел через хоздвор, пропустил мимо ушей вахтерское «куда-куда?!» и оказался на улице. До Тверской по переулкам всего метров триста. Не круг. Для взбешенного Ломакина. Взбешенного. Ибо Слой Слоем, но – эта слизь всего лишь «рядовой сотрудник».
«Вольво» – там, где и припарковал его Ломакин с утра.
Антонина предпочитает иномарки.
КАДР – 9
Сунь-цзы сказал:
«Поэтому пользование шпионами бывает пяти видов: бывают шпионы местные, бывают шпионы внутренние, бывают шпионы обратные, бывают шпионы жизни, бывают шпионы смерти… Но узнают о противнике обязательно через обратного шпиона. Поэтому с обратным шпионом надлежит обращаться особенно внимательно. Обратных шпионов вербуют из шпионов противника и пользуются ими. Когда я пускаю в ход что-либо обманное, я даю знать об этом своим шпионам, а они передают это противнику. Такие шпионы будут шпионами смерти. Шпионы жизни – это те, кто возвращается с донесением.
Не обладая совершенным знанием, не сможешь пользоваться шпионами; не обладая гуманностью и справедливостью, не сможешь применять шпионов; не обладая тонкостью и проницательностью, не сможешь получить от шпионов действительный результат. Тонкость! Тонкость! Нет ничего, в чем нельзя было бы пользоваться шпионами».
Так сказал Сунь-цзы про шпионов. Он это очень давно сказал. Он мудро сказал. Но мудрость хороша, если передача не вдогон через толщу веков.
Ведь тот же Сунь-цзы в том же Трактате о войне, поименованной им «путем обмана», в главе «Шпионы» (смотри выше) изрекает (Во-во! Тонкость! Тонкость!).
«Знание наперед нельзя получить от богов и демонов, нельзя получить и путем умозаключений по сходству, нельзя получить и путем всяких вычислений. Знание положения противника можно получить только от людей».
Так-то, Ломакин, так-то. Знай наизусть трактат – не поможет. Умозаключай по сходству (с тем же «Часом червей», где ВСЕ предатели, ВСЕ!) – не поможет. Вычисляй всячески, боясь признать очевидное, – не поможет. Только от людей, только от людей, Ломакин.
Под окнами Антонины стояла серая «сьерра». Хорошенькое совпадение! Антонина, поспешающая на свидание к набоковскому дому, подсаживается в серую «сьерру». Теперь под окнами Антонины стояла серая «сьерра». Пустая. А где водила? Дома? В квартире? У Антонины? Даже Ломакин (почему «даже»?! опять возомнил о себе, супермен?!) и тот лишь однажды проводил, и то лишь до дверей. И то ладно, что первый этаж. Сталинский «триумф», ложный балкончик – с одной стороны, окна кухни – с другой. Дурацкая улица, даже не улица, но путаница внутренних дворов, дурацкая путаница. Дурацкое название – Стахановцев. Дурацкое соседство с буйным ПТУ. (А если влезут? – А как могут влезть?! – Элементарно! Через форточку! – Там же марлечка!). Дурацкое! Все дурацкое! Ситуация дурацкая! Дураки-дураки-дураки! Она проводила аудит. Ни одной подписи ее нет. Она лишь от душевных щедрот САМА провела аудит, чтобы стало ясно ему, бестолочи, какая он бестолочь! Слой – «рядовой сотрудник». Серая «сьерра» под окнами.
Он поставил «вольво» рядом со «сьеррой». Ждал, что «сьерра» заверещит – ах, отодвиньтесь, я на сигнализации! «Сьерра» промолчала. Это какой же «зонтик» над собой надо ощущать, чтобы «сьерру» оставлять без сигнализации, чтобы, имея на дому факс, компьютер (непременно!), х-а-арошую аппаратуру (а как же!), будучи сама по себе весьма-весьма (еще бы!), – полагаться на марлечку в форточке – никто не покусится, не посмеет. Знают… А кто вдруг не знает – мгновенно узна-а-ает.
Он влез через ложный балкончик. Неслышно ступая. Неслышно содрал марлечку – вот и влез. Неслышно прошел мимо обширной тахты (о! сексодром! н-нет – подушка одна, вмятина одна, скрученная винтом простынь, одеяло на полу, ой-ей, нас еще и кошмары мучают!). Постоял на выходе из спальни – вслушивался. Да нет никого! Никого постороннего. Если вслушаться СПЕЦИАЛЬНО, то всегда определишь, есть ли кто НЕ ОДИН. Один способен быть незаметным-незамечаемым. Двое – никогда. Если, разумеется, они не поставили такую задачу. Перед кем? Перед ним? Его ведь нет. Он не существует, он в Баку – похороны сегодня. Или завтра? В общем, похороны.