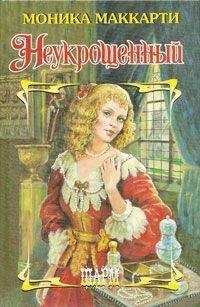Кит МакКарти - Пир плоти
— Найдите его. И будьте у меня в кабинете через десять минут.
* * *С самого утра какая-то непостижимая сила неудержимо влекла Айзенменгера к этому месту, как будто он был перелетной птицей и зов природы настойчиво требовал его возвращения домой. Доктор механически, ни о чем не думая, проделал весь этот долгий путь сквозь промозглый сумрак.
Могила Тамсин.
Старика на этот раз не было. Не было вообще никого, только призраки прошлого и забвение, холод и печаль. Трава была мокрая, и влага очень скоро просочилась сквозь туфли и начала подниматься по штанинам. Присесть возле могилы было негде — с какой стати здесь кому-то рассиживаться?
Стоя в темноте, объявшей и могилу, и всю землю вокруг, он наконец понял, зачем он здесь.
Просить прощения.
В это утро он опять проснулся с чувством вины, и оно не отпускало его весь день, лишь усиливаясь к вечеру. Айзенменгер испытал нечто вроде шока, когда понял, чем это чувство вызвано.
Елена.
Он влюбился в нее.
Он попытался проанализировать свое отношение к этой женщине в связи с тем новым, что произошло между ними за последнее время. Айзенменгер потрясенно осознал, как плохо он до сего дня понимал самого себя. Он думал, что Елена просто привлекает его как красивая и умная женщина, с которой можно завести тесное знакомство к обоюдному удовольствию. А оказалось, что он полюбил ее по-настоящему.
В это было невозможно поверить. Когда Елена успела овладеть им, стать его частью так, что он этого даже не заметил?
Потому-то он так остро и чувствовал свою вину. Потому-то он и приехал сюда, к Тамсин. Только Тамсин благодаря своей невинности могла дать ему освобождение.
Но он знал, что за отпущение грехов придется заплатить, что есть только один путь к его оправданию — извлечение грехов на свет Божий, эксгумация, уничтожение. И ему необходимо пройти через эту боль, иначе все окажется бессмысленным.
Айзенменгер чувствовал холод воздуха и сырость травы. Он начал молиться. Потом он заплакал.
* * *В этот вечер Елена торопилась и, когда проходила через вестибюль, уронила ключи. Если бы не это досадное недоразумение, она и внимания не обратила бы на одинокую женскую фигуру, сидевшую в одном из кресел в холле. Было полутемно, и она не могла разобрать лица женщины, но что-то в облике незнакомки заставило ее остановиться. Ей показалось, что женщина смотрит на нее.
Елена устала, и ей хотелось одного — поскорее очутиться дома и расслабиться, однако она была не из тех, кто может спокойно пройти мимо человека, столь пристально смотрящего на нее. Она должна выяснить, кто это такая и что она здесь делает. Елена приблизилась к женщине.
— Я могу чем-нибудь вам помочь?
Первое, на что она обратила внимание, — это глаза. Большие и неподвижные, но с затаившейся мольбой в глубине. И только тут она поняла, кто это.
— Вы — Мари?
Женщина ничего не ответила и продолжала сидеть так же безучастно.
Елена подошла ближе, так что лицо женщины стало ей виднее. Фигуру она толком разглядеть не могла, потому что женщина сидела сгорбившись и была укутана в какую-то широкую темную хламиду.
— Вы ведь Мари, не так ли? Почему вы сидите здесь?
Никакого ответа. В самой неподвижности фигуры было что-то угрожающее. В памяти Елены возник влетевший к ней в контору кирпич. Все вокруг, включая полицию, полагали, что его бросил кто-то из цыган, однако фактов, подтверждавших это, не было. Просто именно это первым делом приходило в голову. Но Елене это показывало, что «бритва Оккама»[4] не всегда применима: самое простое объяснение верно лишь в том случае, если вы уверены, что можно исключить другие, или обладаете для этого достаточным нахальством. Она же не могла принять этого объяснения еще и потому, что недавно ее чуть не сбила машина. Вряд ли это было случайным совпадением.
Мысль об этом не давала Елене покоя уже второй день. Она колебалась между вполне определенными подозрениями и невозможностью принять абсурдную идею, что кто-то захочет запустить кирпичом ей в голову. Ни к какому заключению она так и не пришла. Ей казалось, что и Айзенменгер что-то подозревает, но она стеснялась прямо спросить его об этом.
Полиции она тем более не сообщила о своих подозрениях. И почему она не сделала этого, объяснить было трудно.
И вот теперь Мари подобралась совсем близко к ее жилищу. При этом женщина не кричала, не плевалась, просто молча смотрела на нее, и эта пассивность пугала Елену гораздо больше, чем все ее аффектированные выходки.
Она еще раз попыталась вызвать Мари на разговор:
— Послушайте, Мари. Я не знаю, что вы здесь делаете, но могу сказать лишь одно: вы заблуждаетесь. Мы с Айзенменгером не любовники, у нас чисто деловые отношения…
Ее резко прервали:
— Я не понимаю, о чем вы говорите.
— Как это не понимаете? — удивленно спросила Елена. — Вы не можете не понимать.
Мари лишь вздохнула. Выражение ее лица было настороженное и озабоченное, но Елену она, казалось, даже не замечала. Какая-то пара вошла в вестибюль и направилась к лифту как раз в тот момент, когда Елена произнесла:
— Не притворяйтесь невинной овечкой. Я уже по горло сыта всеми этими штучками. Если вы не прекратите свои выходки, я обращусь в полицию.
Она не намеревалась говорить это громко, но вошедшие все же услышали ее слова и обернулись.
— Я действительно не понимаю вас. Я просто жду здесь одного человека.
— Кого? — потребовала ответа Елена. — Кого вы ждете?
— Своего приятеля, — ответила женщина, глядя куда-то мимо Елены.
— Вы имеете в виду Джона, не так ли? Ведь он ваш приятель?
Лифт, по своему обыкновению, долго не спускался, но пара, казалось, не возражала — бесплатное развлечение, хотя и без попкорна.
— Я лучше уйду.
Она хотела пройти мимо Елены, но та задержала ее, и на какое-то мгновение между ними завязалась борьба. Мари резко выкрикнула:
— Пожалуйста, оставьте меня в покое! Не толкайтесь! Я просто хочу уйти.
Двери лифта открылись, но мужчина и женщина не торопилась уезжать. Неожиданно Мари сильно толкнула Елену, и та, потеряв равновесие, упала на мраморный пол. Мари с криком: «Оставьте меня!» — выскочила в ночную темноту. Двери лифта начали закрываться, но мужчина помешал им. Пара вошла в кабину. Последнее, что видела Елена, когда поднялась и стала отряхиваться, — это смешанное выражение жалости, насмешки и презрения на их лицах.
* * *Утром во вторник Глория, как обычно, в половине одиннадцатого принесла профессору Расселу поступившую почту. Перед этим она всегда выбирала из общей массы те письма, в которых запрашивалось его профессиональное мнение по тому или иному вопросу, и передавала их лаборантам для регистрации и обработки. Остальная корреспонденция состояла из уведомлений инвестиционных фондов, посланий общего характера от региональных комитетов и организаций патологов, запечатанных научных журналов и рекламных проспектов различных медицинских издательств. Изредка встречались письма с пометкой «лично» или «в собственные руки», и их Глория не вскрывала. На заре своей работы в школе Глория имела неосторожность распечатать одно такое письмо, чем немедленно спровоцировала гнев профессора — тот аж побагровел и затрясся от ярости. В тот раз он продемонстрировал ей весь свой обширный запас зоологических терминов и огромный диапазон голосовых возможностей — от угрожающего низкого рычания до пронзительного визга, вызывавшего дрожь в челюстях. Человек более робкий, кое-как собрав размазанные по помещению остатки чувства собственного достоинства, дополз бы до двери, чтобы уже никогда не возвращаться; Глория же спокойно переждала бурю профессорского гнева, не понеся при этом ощутимых потерь, и взяла на заметку, что так поступать в дальнейшем не следует.
Таким образом, письмо с пометкой «лично, в собственные руки» легло в то утро на стол профессора Рассела в нетронутом виде. Он вскрыл конверт, из него выскользнула на стол фотография. Бросив на нее беглый взгляд, он буквально окаменел и долго сидел так, в ужасе пялясь на фотографию. Спустя некоторое время он вспомнил о письме и обратился к нему, заранее с беспощадной ясностью понимая, что в нем написано.
Он перечитал письмо дважды. Лицо Рассела помертвело, покрылось холодным потом и обмякло, как будто все его мышцы атрофировались. Расселу повезло, что он сидел в кресле, ибо даже в нем он покачнулся и бессильно откинулся на спинку.
Его трясло мелкой дрожью. От страха.
* * *Несколько часов Айзенменгер собирался с духом, но выбора у него не было. И, наконец решившись, сразу успокоился и почувствовал себя свободным. Настолько свободным, что ему хватило наглости набрать номер декана.
— Да? — спросил Шлемм таким тоном, словно не мог понять, как это Айзенменгер осмелился побеспокоить его после разноса, который он ему устроил.