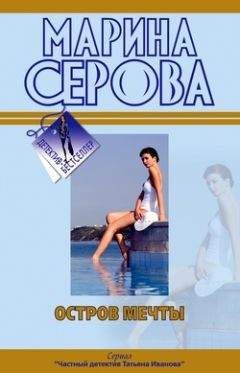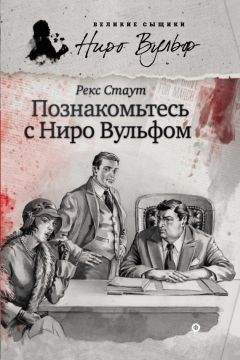Жан-Кристоф Гранже - Конго Реквием
– Именно из-за самого Грегуара. Только де Пернек знал причину его психоза.
Эрван с трудом представлял себе это лечение на расстоянии, прописанное сообщником-убийцей.
– То есть он через тебя лечил папу?
– Нет. Я имею в виду всего несколько звонков на протяжении десятилетий. Когда Грегуар отказывался обращаться к специалистам в Париже, я звонила де Пернеку за советом…
– И сколько длилась эта нелепая игра?
– Я оборвала все контакты с ним в девяностых годах.
– Ты знаешь, что с ним стало?
– Он продолжил свою карьеру в Бельгии и умер в 1997-м в Намюре. Но важен был не он.
Эрван был согласен. И однако, он не мог слезть с темы.
– Ты любила его?
Она испустила кудахтанье, прозвучавшее мрачно и страшно: в темноте этот звук напомнил урчание рептилии в глубине солевого озера.
– Ты так ничего и не понял… Для меня существовал только Грегуар. Де Пернек был всего лишь способом его заполучить.
Рассвет 1 мая 1971 года. Морван, одурманенный психотропами, в машине, под проливным дождем. Мэгги, протыкающая тело Кати гвоздями, осколками, действуя в одиночку, как живодер на бойне. Она и де Пернек, уходящие по тропам, чтобы бросить тело, а потом занимающиеся любовью в лодочном сарае. В честь Дня труда маленькая команда неплохо поработала…
– После стольких лет, – продолжила Мэгги, как будто ее мысли текли в абсолютно том же направлении, – я все еще не искупила свой грех.
Его шестое чувство полицейского подсказало, что Мэгги еще не закончила и дальше будет хуже.
– Она не была мертвой, – прошептала та. – Я хочу сказать: в сарае…
Он закрыл свои чувства для внешнего мира, как задерживают дыхание под водой. И ждал так несколько секунд, прежде чем позволить дьявольскому голосу снова проникнуть в сознание.
– Я там долго ее разглядывала. Меня заворожило это тело, это лицо. Ты, конечно, знаешь: отец обрил ей голову. Он начал вырезать свастику на ее лбу. В своем бреду он превратил Кати в Жаклин Морван. Мы так никогда и не узнали, что еще он проделывал, пока она была бездыханной, но можно все предположить…
Морван, занимающийся любовью с безвольным телом – телом его обожаемой любовницы и опозоренной матери, – вроде тех серийных убийц, о которых рассказывают в специальной литературе. Как подобный человек смог потом вести вроде бы нормальный образ жизни? Как он мог руководить полицейскими службами, проводить операции государственного значения?
– Это ты ее убила? – вдруг спросил он.
– Я могла бы тебе сказать, что у меня не было выбора, что Кати обвинила бы Грегуара, но это неправда. Она бы снова его простила, я уверена. Я прикончила ее из чистой ревности. Когда я увидела, как она приходит в себя, ненависть и ярость затопили меня. Эта мерзавка не желала сдохнуть. Она украдет у меня мою жизнь, детей, которых я должна родить от Морвана… Я схватила молоток и ударила ее по голове. В грудь. По ребрам. Тогда она перестала двигаться, я взяла гвозди и вбила ей их в виски. Она снова задергалась. Я привязала ее, заткнула рот и…
Она остановилась, словно чтобы перевести дыхание, но на самом деле – пытаясь вернуться в разум. При упоминании о той ночи сознание вновь покидало ее.
– Я избавлю тебя от подробностей, – добавила она наконец. – Я сделала то, что следовало сделать…
Она протянула руку и принялась гладить череп Эрвана, словно паучиха с тихими лапками. Он не реагировал, будто ему перерезали нервы.
«Я избавлю тебя от деталей…» Но у него перед глазами мелькали отрывки из протокола вскрытия, подписанного медиком из института Стенли. Вонзенный осколок вырвал ей левый глаз. Гвоздь пробил правую щеку до десны. Эвисцерация[96] была полной, и разрез проходил так низко, что задевал мочеиспускательный канал. Мэгги де Креф превзошла Тьерри Фарабо на его собственной территории. В ответ Человек-гвоздь тоже сорвался с цепи: Колетт Блох, Ноортье Эльскамп… Чудовищная гонка.
– А ребенок… – резко оборвал он, – как вам удалось?
Невозможно было заставить себя заменить «он» на «я».
– Это было не так уж сложно. После взбучки, которую устроил мне Морван, я переехала в Кисангани, в район Великих озер. Сейчас трудно себе представить, но тогда это был мирный город с широкими улицами и цветущими виллами. Я увезла тебя с собой. Морван вернулся к своему расследованию и в конце концов арестовал Человека-гвоздя. Все успокоилось. Он женился на мне, и мы смогли объявить о твоем рождении, подтасовав даты. Не та волшебная сказка, о которой мечтают юные девушки, но я приспособилась.
Мэгги умела формулировать. Ребенок, рожденный от душевнобольного отца, выращенный убийцей его собственной матери на фоне серийных убийств. Позвольте представить вам Эрвана Морвана. Сорок два года кошмаров и умолчания, кое-как собранных в кучу между девятимиллиметровым и стрижкой ежиком.
Он попытался выпрямиться. Ломота в суставах напомнила ему, что физически он все еще существует, – в этих сумерках, загипнотизированный бесплотным голосом, он совершенно перестал ощущать свое тело.
– Прошу, не суди меня.
– Ты не в себе, Мэгги. Речь не идет об осуждении или наказании. Ты просто убила мою мать!
– Это было другое время.
Он в свою очередь рассмеялся – и смех резал губы как бритва.
– Тебя надо лечить.
Лапа паука-птицееда отодвинулась, и он смог наконец встать. Теперь он ясно различал Мэгги, сидящую с повисшими пальцами. Худой силуэт постаревшей хиппи, такой же иссохший, как и идеи, которые она вроде бы исповедовала. Он не знал, что Flower Power[97] включала в себя убийство и зверство…
– Ты не понимаешь, что я хочу сказать, – вздохнула она, не глядя на него. – Я говорю о конкретном месте и времени. В Лонтано нас всех захватил смерч. Человек-гвоздь стал катализатором всего скрытого безумия. Африка, проклятие, нависшее над нашим кланом, деньги от рудников, жестокость, расизм…
Эрван сдался. Он был опустошен. Ни гнева и ни грана энергии, чтобы осудить Мэгги, изобличить или оправдать. Перед отъездом в Африку он сказал отцу: «Срок давности – это для судей, не для людей». Он ошибся. Срок давности был высечен на скрижалях вселенной. Срок давности – это забвение. И дело не в памяти, а в теле: нет больше ни гормонов, ни адреналина, чтобы возмутиться.
– Почему ты теперь мне все рассказала? – спросил он, просто чтобы закончить. – Потому что папа так сделал? До самого конца решения принимает он?
Она молчала, опустив голову. Можно было подумать, что она плачет или собирается с мыслями. Эрван догадывался, что она скорее смеется над его наивностью.
– Сегодня, когда его больше нет, ничто больше не имеет смысла. Во всяком случае, я – я больше не имею смысла.
90Когда он оказался у себя дома – белые стены, запах хлорки, пустой холодильник: его собственное представление о домашнем очаге, – он все еще не испытывал никаких чувств: он пребывал в том же состоянии, что и в аэропорту Лубумбаши. Невменяемый, оглушенный. В попытке вернуть хоть что-то способное его заинтересовать, он позвонил своей команде. Ничего нового. У Одри сработал автоответчик. Фавини трудился над перечнем психушек, где лечили Изабель Барер, – список получался длинный. Тонфа связался с пациентами Эрика Каца, и его послали подальше. Теперь он искал информацию о семействе Барер и их прачечных. Каждый пообещал письменный отчет ночью, но Эрван уже понял, что раньше завтрашнего утра надеяться особо не на что.
Он приготовил кофе, и тут к нему явился нежданный гость: Африка. Не та, где обитали Кати Фонтана и Мэгги де Креф, а его собственная – последних дней. Он выпустил чашку и осел на стул под грудой обрушившихся картин: золотисто-коричневая река, красно-зеленые берега, кадогас, руками в резиновых перчатках вскрывающие животы своим жертвам, Дух Мертвых, перерезанный пополам, пылающее гетто Созо…
Он надеялся, что оставил позади эти травматические видения. Он питал иллюзию, что возвращение к цивилизации подействует как волшебная губка, стирающая все записи с долговой доски. Он был подобен тем, кто уверен, что не подхватили малярию или амебиаз, потому что вернулись домой в полном здравии, не подозревая, что уже заражены до конца дней и микробы навсегда угнездились в сокровенных уголках их внутренностей. Отныне темные силы Африки раз за разом будут напоминать о себе, как приступы болотной лихорадки, которые поражают и самих чернокожих.
Когда видения чуть отступили, явился отец с вырванным горлом в глубине кабины. Эрвана скрутило пополам. Он не плакал – он задыхался. Не то чтобы он был потрясен, просто пытался не потерять сознания. Африканские воспоминания – скорее рукопашная, чем задумчивая меланхолия. Странным образом его сознание сфокусировалось на колтановой пыли в желобках пола. Этот крупный план подсказал ему путь к отступлению: наследство. Он ни разу не вспомнил о нем. Конечно, там целое состояние, но с кучей тайн и дурных сюрпризов в придачу – уж кто-кто, а отец умел приготовить острую закуску в дьявольской печке.
![Харлан Эллисон - Время глаза [Время ока]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)