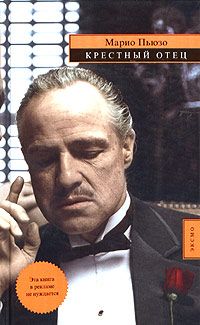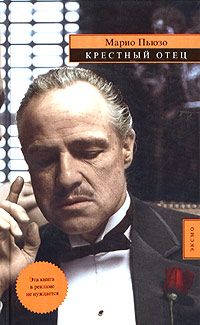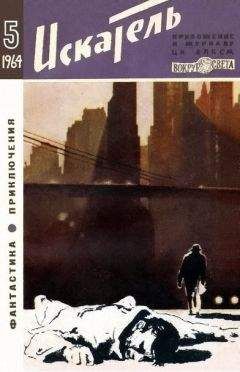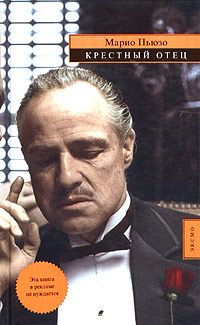Марио Пьюзо - Крестный отец
И все же вот этого, ближайшего часа Хейген страшился всей душой. Он пробовал подготовить себя к тому, как ему надлежит держаться. Первое ― строго обуздывать себя в признании собственной вины. Каяться и бить себя в грудь означало бы только взваливать лишнюю тяжесть на плечи дона. Открыто предаваться горю ― лишь усугублять горе, постигшее дона. Объявить о своей непригодности на роль consigliori в военное время ― лишь дать основание дону корить себя за просчет в выборе человека на столь важную должность.
Хейген знал, что от него требуется: сообщить о случившемся, изложить свои соображения о том, как спасти положение, ― и умолкнуть. Что до собственных переживаний, он обнаружит их лишь в той мере, какую сочтет уместной его дон. Если почувствует, что дон желает видеть его раскаяние, то не скроет, как тяготится сознанием своей вины. Если поймет, что позволительны изъявления скорби, ― даст волю своему непритворному горю.
Шум моторов заставил его поднять голову ― на жилой «пятачок» в парковой зоне въезжали машины. Это прибыли caporegimes. Он вкратце ознакомит их с обстановкой, а после пойдет наверх будить дона Корлеоне. Он встал, подошел к бару возле письменного стола, вынул стакан, бутылку и с минуту помедлил, сразу ослабев настолько, что ему показалось трудным налить стакан. Услышал вдруг, как позади тихонько закрылась дверь, и обернулся ― в комнате, впервые за долгое время совсем одетый, стоял дон Корлеоне.
Дон прошел через кабинет к своему огромному кожаному креслу и сел. Он ступал чуточку скованно ― чуточку слишком свободно сидел на нем пиджак, но глазам Хейгена он представился таким же, как всегда. Можно было подумать, что он единым усилием воли сумел стереть с себя внешние следы еще не побежденной немощи. Его суровые черты были исполнены прежней внушительности и силы. И в кресле он сидел прямо.
― Ну-ка, плесни мне анисовой, ― сказал дон.
Хейген переменил бутылку и налил ему и себе огненной, с лакричным привкусом, пьяной влаги. Настойка была домашнего изготовления, деревенская, много крепче той, какую продают в магазинах, ― подношение старинного друга, который ежегодно доставлял дону столько ящиков, сколько может взять небольшой автофургон.
― Моя жена заснула в слезах, ― проговорил дон Корлеоне. ― Я видел из окна, как к дому подъехали мои caporegimes, ― хоть время полночь. А потому, почтенный consigliori, не пора ли тебе сказать своему дону то, что уже знают все.
Хейген тихо сказал:
― Я маме ничего не говорил. Как раз собирался сейчас подняться к вам и рассказать, что случилось. Еще минута, и я пришел бы вас будить.
Дон сказал бесстрастно:
― Но сперва тебе потребовалось выпить.
― Да, ― сказал Хейген.
― Что ж, ты выпил, ― сказал дон. ― Значит, можешь рассказывать. ― Легчайший оттенок укоризны за такое проявление слабости слышался в его словах.
― Санни застрелили по дороге на Джоунз-Бич, ― сказал Хейген. ― Насмерть.
Дон Корлеоне моргнул. На долю мгновения броня его воли распалась ― стало видно, что его покидают силы. И тут же он овладел собой.
Он сложил руки на столе и посмотрел Хейгену прямо в глаза.
― Расскажи мне, как все произошло, ― сказал он. ― Нет... ― Он поднял ладонь. ― Погоди, пусть подойдут Клеменца и Тессио, а то придется рассказывать заново.
Не прошло минуты, как дверь открылась и один из телохранителей впустил в кабинет обоих caporegimes. Дон поднялся им навстречу ― этот жест сказал им, что он знает о гибели сына. По праву, которое дается старым товарищам, они обнялись с ним. Хейген налил в стаканы анисовой. Все выпили ― и тогда он рассказал им о событиях этого вечера.
Когда он кончил, дон Корлеоне задал только один вопрос:
― Это точно, что мой сын убит?
Ему ответил Клеменца:
― Да. Телохранители были из regime Сантино, но это я их выбирал. Я допросил их, когда они прибыли ко мне. При свете из будки у заставы они хорошо его разглядели. С такими ранами нельзя остаться в живых. Эти ребята знают, что поплатятся головой за неверные сведения.
Дон принял окончательный приговор, не выдав своих чувств ничем, кроме короткого молчания. Потом он заговорил:
― Никто из вас не будет сейчас заниматься этим делом. Никто без моего специального приказа не предпримет никаких шагов к отмщению ― никаких попыток выследить и покарать убийц моего сына. Все враждебные действия против Пяти семейств полностью прекращаются, пока от меня не будет на то непосредственных и прямых указаний. Отныне и до похорон моего сына семейство приостанавливает все деловые операции и не оказывает покровительства деловым операциям своих подопечных. После мы соберемся здесь опять и решим, что нам делать. А сегодня займемся тем, что еще можем сделать для Сантино, ― его нужно похоронить по-христиански. Я поручу друзьям уладить формальности с полицией и надлежащими властями. Клеменца, ты будешь неотлучно при мне в качестве моего телохранителя ― ты и люди из твоего regime. На тебя, Тессио, я возлагаю охрану всех остальных членов семейства. Том, позвонишь Америго Бонасере и скажешь, что ночью ― еще не знаю точно, в какое время, ― мне понадобятся его услуги. Пусть дожидается в своем заведении. Возможно, я приеду туда через час, но может сложиться так, что и через два, даже три часа. Вам все понятно?
Они молча кивнули. Дон Корлеоне продолжал:
― Клеменца, возьми людей, садитесь по машинам и ждите. Я через несколько минут буду готов. Том, ты все сделал как надо. Я хочу, чтобы утром Констанция была рядом с матерью. Они будут с мужем теперь жить здесь, организуй все для этого. Пусть женщины, подруги Сандры, соберутся у нее в доме и не оставляют ее одну. Моя жена тоже туда придет, как только я поговорю с ней. Она сообщит Сандре о несчастье, а женщины позаботятся о спасении его души, закажут заупокойную мессу.
Дон поднялся с кожаного кресла. Все тоже встали; Клеменца и Тессио еще раз обнялись с ним. Хейген распахнул дверь ― дон, выходя, на миг задержался и взглянул ему в лицо. Он приложил ладонь к щеке Хейгена, быстро обнял его и сказал по-итальянски:
― Ты показал себя хорошим сыном. Это утешает меня, ― подтверждая, что в это страшное время Хейген действовал правильно.
После этого дон пошел наверх в спальню разговаривать с женой. Тогда-то Хейген и позвонил Америго Бонасере и призвал похоронщика отплатить услугой за услугу, оказанную ему однажды доном Корлеоне.
КНИГА ПЯТАЯ
ГЛАВА 20
Гибель Сантино Корлеоне, точно камень, брошенный в омут, взбаламутила преступный мир Америки. И когда стало известно, что дон Корлеоне покинул одр болезни, дабы вновь принять бразды правления, когда лазутчики, воротясь с похорон, донесли, что дон, судя по виду, совсем поправился, ― головка Пяти семейств развернула судорожные приготовления к обороне, не сомневаясь, что враг, в ответ на удар, неминуемо развяжет кровавую войну. Никто не делал опрометчивого вывода, что с доном Корлеоне после постигших его неудач можно не слишком считаться. Этот человек совершил на своем жизненном пути не так уж много ошибок и на каждой из этих немногих чему-то научился.
Один лишь Хейген догадывался об истинных намерениях дона и потому не удивился, когда к Пяти семействам отрядили посланцев с предложением заключить мир. И не просто заключить мир, но созвать все семейства города Нью-Йорка на совещание, пригласив также принять в нем участие семейные синдикаты со всей страны. В Нью-Йорке сосредоточились наиболее могущественные кланы Америки ― все понимали, что от их благоденствия зависит в известной мере и благоденствие остальных.
Предложение встретили недоверчиво. Что это ― западня? Попытка усыпить бдительность неприятеля и застигнуть его врасплох? Расквитаться за сына единым духом, учинив поголовную резню? Однако дон Корлеоне не замедлил представить свидетельства своего чистосердечия. Во-первых, он привлекал к участию в этой встрече синдикаты со всех концов страны ― кроме того, не видно было, чтобы он собирался переводить своих подданных на военное положение или спешил вербовать себе союзников. А затем он предпринял шаг, которым окончательно и безусловно подтвердил искренность своих намерений и одновременно обеспечил неприкосновенность участников предстоящего высокого собрания. Он заручился услугами семейства Боккикьо.
Семейство Боккикьо представляло собой явление в своем роде единственное ― некогда ответвление сицилийской мафии, известное своей непревзойденной свирепостью, оно на Американском континенте превратилось в своеобразное орудие мира. Род, некогда добывавший себе пропитание безумной жестокостью, ныне добывал его способом, достойным, образно говоря, святых страстотерпцев. Боккикьо владели одним неоценимым достоянием ― прочнейшей спаянностью кровных уз, образующих каркас их рода, племенной сплоченностью, редкостной даже для среды, в которой верность сородичам почитают превыше супружеской верности.