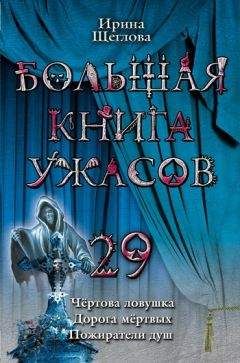Экземпляр (СИ) - Купор Юлия
Голова кружится, мир шатается, неустойчивость, одна сплошная неустойчивость, ну как так-то, но и к этому можно привыкнуть, ко всему можно привыкнуть, а кровь кап-кап, по-прежнему кап-кап, мистер Пропер придет — офигеет.
Фонари за окном обрели радужные нимбы. Красавица-луна расплылась по небу. Костя все стоял, все наблюдал за тем, как вытекает из него, будто томатный сок из картонной коробки, алая кровь. Он хотел было размазать эту кровь по стеклу и написать что-то зловещее, но потом понял, что это уж никуда не годится. Пошлость, звенящая колокольчиками в морозном воздухе пошлость, увы и ах. Поэтому он сделал штуку гораздо более пошлую. Машинально он подошел к холодильнику, дернул упругую дверцу — внутри холодильника вспыхнуло анатомически яркое электричество — и взял с полки непочатую бутылку ванильного «Абсолюта». Костя готов был поклясться, что никакой водки в холодильнике прежде не было, только пиво. Впрочем, какая разница. Мальчик, водочки нам принеси — мы домой летим.
Костя достал с полки круглый низенький стакан, сполоснул под краном, сдернул с бутылки защитный колпачок — водка тонкой струйкой потекла в стакан. Потом он протянул руку над стаканом, точно благословляя, накапал крови — получился дурной коктейль, дьявольская «Кровавая Мэри» с любопытным ингредиентом вместо томатного сока, — и залпом выпил полученную жидкость. Наконец, Косте надоела эта сцена, и он, немного ругая себя за напыщенность, поставил стакан на столешницу, ушел в ванную, душную и теплую, точно погреб, порылся в шкафчике, где под слоем кремов нашел перекись водорода, пластырь и бинты. Кое-как перевязал свои раны — ладонь начала неприятно пощипывать и болеть. Вернулся на кухню, где лежал оставленный телефон. Взял его со стола здоровой рукой. Нашел в записной книжке номер Ясмины Керн.
Безупречная самоубийца из второй школы, девочка, оставшаяся навсегда в нулевых, идеально красивая — ну точно фарфоровая куколка (кто-то сегодня уже говорил про кукол, вспомнить бы кто) из центрального универмага, универмага из прошлого (Костя помнил, в детстве они с мамой часто ездили в Екатеринбург), универмага, куда больше не зайдет ни один посетитель, безупречная девочка, которая, определенно, всю жизнь искала любви, искала, точно раненый олень ищет воду, и нашла ее только после смерти — в лице такой же заблудшей, трагически погибшей Ники, и слава дьяволу, что нашла. Та ответила мгновенно, будто ждала его звонка.
— Конечно-конечно, я согласна на любую твою вечеринку. Тотчас же отправлю Аристарха с машиной, пусть заедет за тобой. Ты дома? Адрес тот же — Фестивальная, 2?
— Да, пусть подъезжает.
Костя оставил телефон на столе, а сам ушел в спальню переодеваться, благо костюм от Александра Маккуина ждал его в шкафу. Он переоделся, надушился, хотел было побриться на дорожку, но потом, увидев себя в зеркале с чуть небрежной щетиной, передумал и оставил так. Таким вот франтом он и вышел из подъезда, возле которого уже была припаркована черная машина, а девчонки стояли возле открытых дверей и курили. Аристарх Левандовский, слепой водитель адского лимузина, стоял поодаль и тоже меланхолично курил, выпуская в небо клубы сигаретного дыма, подсвеченные неестественно-фиолетовым фонарным светом. Отчего-то Костя обратился сначала к нему.
— Мое почтение, — деликатно произнес Костя, закуривая — Левандовский охотно поделился зажигалкой.
— Костя, — негромко произнес Левандовский, глубоко затянувшись, — с момента нашего знакомства меня мучает вопрос. А ты что делаешь в компании Векслера? Я все понимаю: убийцы, самоубийцы, извращенцы, маньяки, сумасшедшие, — а ты-то каким боком к ним причислен? Что ты такого натворил?
— Ох… — Костя замялся, не зная, что ответить этому острому, как стальной клинок, и справедливому, как Страшный суд, человеку. — Скажем так, я сильно накосячил в две тысячи седьмом. Я кое-что страшное натворил.
— В две тысячи седьмом? — Левандовский аж поперхнулся. — Я вас умоляю, юноша! Эка невидаль. Кто ж, по-твоему, не косячил в две тысячи седьмом? «Дюран-Дюран» альбом с Тимбалэндом записали — и ничего же.
— Ох, и не говорите, — окончательно смутился Костя.
Тут Левандовский докурил, расплющил окурок подошвой своих лакированных туфель и потерял к Косте всяческий интерес. Сунув руки в карманы, неторопливо прошествовал к водительскому сиденью. Настала очередь девчонок.
— А что отмечаем-то? — спросила Ясмина после традиционного троекратного поцелуя.
Ника дежурно чмокнула Костю в щеку, но один раз.
— Мою свободу, — ответил Костя.
— О, это отлично, — ответила Ясмина.
— У тебя загранпаспорт с собой есть? — поинтересовалась Ника.
— Конечно, всегда с собой ношу.
Костя взглянул на небо, прошитое мерцающими звездами, будто ниткой люрекса. И когда успело так стемнеть? Подул ветер. Костя сделал глубокий вдох, чуть не подавившись холодным воздухом бесконечного, точно прыжок в пропасть, октября. Этот октябрь уже никогда не закончится — и теперь Костя об этом точно знал. И этот город — полноте, какой город, всего лишь гигантская театральная декорация, подсвеченная луной, точно софитом, экологически чистым софитом, — этот город уже никогда не отпустит. Воскресенск-33 застрял во времени и пространстве, словно муха в янтаре. Какая, в сущности, нелепая вышла история: человек любил, человек страдал, человек убил, человек продал дьяволу свою душу. И все в этих декорациях, выцветших и пыльных, походит то на страницы никем не читанной книги, то на стершуюся надпись на вычурном памятнике — годы жизни и годы смерти, а между ними отчаянное, как полет над Москвой на метле, и беспокойное существование.
Костя уже основательно замерз и продрог, пока смотрел на девчонок, да к тому же Левандовский уже давно сердито зазывал их всех в салон, мол, пора уже ехать, нечего бензин впустую тратить. А Косте все не хотелось расставаться с этим печальным мгновением, полным совершенства, и перепрыгивать в новое, где все уже будет по-другому. Дул сырой октябрьский ветер — тот самый ветер, который забирался, точно вор в ночи, во все подворотни и дворики Воскресенска-33, тот самый ветер, который сметал сухую листву с тротуара на Мичурина, и полировал, точно морскую гальку, булыжники на разбитой Фестивальной, и шелестел объявлениями «куплю квартиру в вашем районе» на фонарных столбах, и колебал вывеску заброшенной парикмахерской на Рыбакова. Этот ветер знал многое, если не все, но предпочитал никому ни о чем не рассказывать.
— Ну, докурил? — уже и Ясмина начала торопить Костю, который зазевался, точно голубь на морозе. — Садимся уже, колотун на дворе адский.
Адский, невольно согласился Костя. Адский, как и все в этом крохотном, точно молекула безысходности, городе. Костя неловко — руки совсем одеревенели — забрался на заднее сиденье лимузина, понимая, что сейчас этот дурацкий пиджак помнется так, что его уж точно придется выбрасывать, и захлопнул за собой дверь. Рядом с ним сидела Ясмина, и он чувствовал кожей, чувствовал через плотную брючную ткань обжигающий холод, исходящий от безупречной покойницы. Впрочем, этот холод (Костя к такому давно уже привык) не причинял никакого дискомфорта, он скорее даже возбуждал. А над городом висела ночь — холодная, звездная, как на картине безумного голландца, бесконечная, прекрасная и ужасная одновременно.
Тронулись, поехали в никуда по ухабистой Фестивальной, где щербатая мостовая способна была убить любую, даже самую крепкую подвеску. За окном мелькнула Костина девятиэтажка с теплыми огонечками окон. Впрочем, в квартире на шестом этаже свет погас и уже никогда не зажжется. Ночь обещала быть долгой, но увлекательной.
ЭПИЛОГ

Металлические сиденья, хмурые люди, навьюченные спортивными сумками, — автовокзал Воскресенска-33. Единственное место, откуда горожанин может покинуть этот город, если у него, конечно же, получится.