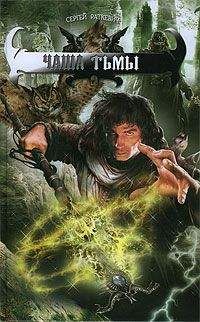Михаил Вершовский - Твари
— Сорок восьмая.
— Ну вот. А моя на другую сторону выходит. Видно. Нет, на машине уехать не дадут.
— Что значит не дадут? Не реквизируют же ее? — не успокаивалась женщина.
— Да пусть хоть реквизируют! — резко парировал ее муж. — Дом бы не спалили да в драбадан не разнесли. А «девятку» нашу задрипанную пусть хоть катком закатают.
Они по одному выходили из подъезда, бросая испуганно-недоуменные взгляды на человека в камуфляжке с помповым ружьем в руках, стоявшего метрах в трех-четырех от дверей. Тот, однако, не поднимая головы, внимательно и сосредоточенно смотрел куда-то вниз, им под ноги.
На подъездной дороге два МЧС-овца жестами показывали, что сначала надо подойти к ним. У одного в руках был журнал для записи.
— Пятьдесят третья, — сказал Вадим.
Спасатель с журналом кивнул, сделав какую-то пометку.
— Машина есть? — спросил второй.
— Есть.
— Ключи.
Вадим пересадил сына с правой руки на левую, полез в карман и, отстегнув ключ, отдал его офицеру. Потом взглянул на второго, с журналом.
— А это отмечать не будете?
Жена уже была рядом, вцепившись в руку Вадима.
— Что — это? — не понял офицер.
— Что ключи от машины сданы.
— Будем, будем. — МЧС-ник поморщился. — Корниенко, запиши. Пятьдесят третья. И ключи.
— Вы бы хоть спросили, от какой машины. — Вадим уже с трудом сдерживал гнев.
— Так! — Офицер с вызовом посмотрел на него. — Мы разберемся, от какой машины. Будет необходимость — разберемся. Теперь проходите туда. На улицу. На проезжую часть. Следующий!
Молодая пара с ребенком двинулась по дорожке.
Нехорошо, подумал Кремер, стоявший так, чтобы видеть все, что происходило у всех пяти подъездов. Уже сбой, товарищи генералы. Надо было жестче и проще. Вставлять ключи в замки автомобилей. Чтобы сами владельцы и вставляли. Ничего, тоже не бесконфликтно прошло бы. Но хотя бы без последующей путаницы. А будет она, будет. Куда ж ей деться.
Дай Бог, чтобы единственный прокол на сегодня. Кремер невесело усмехнулся. Ты сам-то в это веришь? Или просто поверить очень уж хочется?
Однако и этот прокол исправлять надо. Он потянулся к рации.
Пашинян смотрел, как люди ручейками стекаются от подъездных дорожек своих домов на проезжую часть Казанской. Громкоговорящая уже сообщила, что оттуда можно двигаться к метро, где их встретят представители МЧС, занимавшиеся распределением и размещением эвакуированных. Однако люди стояли, то ли поджидая родных и соседей, то ли движимые бессознательным желанием идти всем вместе — может быть, потому что это «вместе» казалось им более безопасным, надежным, исключающим возможность ошибки.
Майор не заметил, как рядом с ним оказался Зинченко.
— Тягостная картина, — негромко произнес полковник.
— Да, — ответил Пашинян. — Невеселая.
Оба умолкли.
— Ты обратил внимание, что все прошло практически без инцидентов? — нарушил тишину Зинченко.
— Конечно, товарищ полковник. Одна-две разборки, да и те несущественные.
— Порадовало?
Майор задумался.
— Честно?
— Ну а как же еще, Сергей?
— Ну тогда так скажу. Что работу нам это облегчило — да, это порадовало. Но в целом… Тяжелое чувство, товарищ полковник.
— Согласен, — кивнул Зинченко. — Но все-таки почему?
— Потому что сидели люди буквально рядом со смертью, но сидели до последнего. Может и так, что ехать большинству из них было некуда, но я думаю, что дело в другом. Вот эти их квартирки в хрущевках — это все, что у них есть. Вот и цеплялись до последнего — за это свое. Там вся их жизнь, и другой не светит. Там — понятно, там знакомо. Там, при том, что и змеи где-то совсем близко — какая-то иллюзия безопасности. А сейчас вот идут — как перекати-поле, которое ветер степной гонит… Знали, чувствовали, что будет именно так — но все-таки надеялись, что, может быть, под крышей своей ненадежной все это переживут…
Не поспоришь, подумал полковник. Так оно и есть. Как будто обрушили вокруг людей хлипкие стены их призрачных крепостей, сорвали латы-доспехи, оставив голыми и беззащитными, вынуждая жаться сейчас друг к другу на проезжей части, вместо того, чтобы идти к метро, подальше от опасности, подальше от сумасшедшей катавасии, которая вот-вот затеется, и от игры со смертью, которая закончится неведомо чем.
— Видите, куда почти все они смотрят? — Пашинян невесело усмехнулся. — Сюда же. Не вперед, не туда, куда им идти, где наши «дирижеры» им инструкции раздают — а сюда. На эти свои «хрущобы», на эти свои квартирки.
— Потому что не знают, вернутся ли, — мрачно проговорил Зинченко.
— А мы?
— Что мы?
— А мы знаем? Что они сюда вернутся?
— Непростой вопрос, Сергей. Зато ответ на него простой — не знаем. Но в том наша задача и состоит: сделать все, абсолютно все, чтобы вернулись. Чтобы было куда возвращаться.
Старая женщина шла, не поднимая головы и прижимая к груди облезлого рыжего кота. Ни чемодана, ни сумки, ни даже рюкзачка за спиной — почти обязательного атрибута нынешних старушек в их нескончаемых походах по магазинам.
— Ольга Александровна, — Телешов поравнялся с ней.
— Сережа! — Она подняла голову, и он увидел, что на щеках ее блестят слезы.
— Давайте я кота понесу, хотя бы до Таллинской, — предложил он, протягивая руки.
Старушка еще сильнее прижала животное к себе. Кот жалобно мяукнул.
— Нет, Сереженька, спасибо. Барсик и так, бедный, весь на нервах. Он же у меня из дому никогда не выходил. И вдруг все это: шум, громкоговорители, народ на улице… Бедный… — Она погладила кота по рыжей голове. — Так что мы уж лучше вместе. Так, Барсюшка?
Кот снова мяукнул и ткнулся носом в морщинистую руку хозяйки.
Они вышли на проезжую часть улицы, где уже стояли сотни людей, все никак не решавшихся двинуться туда, куда им предписывали идти распоряжения МЧС. Хорошо, что выключили громкоговорящую, подумал Телешов. Сейчас с людьми разговаривали спасатели, отдавали команды, отвечали — в меру своих сил — на сыпавшиеся отовсюду вопросы. Все-таки живые голоса, живые лица. А взорвавшие предрассветную тишину металлические команды матюгальников — это был слишком похоже на…
Похоже на что? Действительно, на что? Наверное, на войну, сказал он себе. Хотя кто же из них знает и помнит, что такое война? Разве что две-три блокадницы, доживавшие свой век на этом несчастном треугольнике. Однако память — глубинная, ставшая биологической память — живет все-таки в каждом из нас. В старых и молодых. Сколько лет прошло, да и поколений уж сколько сменилось — а живет. Надо ли, чтобы жила? Может, похоронить бы уже эту память, как похоронили почти всех, кто на плечах своих вынес ту страшную, большую войну — которую для последующих поколений разменяли на бесконечную вереницу локальных, не близких и оттого как бы не страшных? Сколько же подлостей и мерзостей прокручивалось на том, что всегда была уверенность: есть козырь, перебивающий все остальные. Аргумент, апеллирующий к этой глубинной памяти народной: «лишь бы не было войны».
Очумевший от водки и крови, полуживой — и оттого еще более страшный — «гарант», и его кукловоды, и вся свора человекообразных пиявок, вынырнувшая Бог весть из каких мутных глубин — все они ставили на то, что этот аргумент сработает.
И он срабатывал. Срабатывал тогда, когда на улицах появились несчетные толпы нищих и армии беспризорных детей, когда под нож озверевших бандитов были брошены сначала тысячи всеми забытых соотечественников, а потом и тысячи необученных, голодных и оборванных мальчишек в солдатской форме.
Лишь бы не было войны… Да какая же еще война была нам нужна, чтобы проснуться?
И она же, эта живая — пусть даже и не осознаваемая — память сформировала в людях стойкое убеждение: как все, так и мы. «Как все — так и мы», говорила мама, когда черная полоса на тельняшке жизни все никак не сменялась белой. Конечно, для негодяев, по привычке играющих миллионами человеческих жизней, такое убеждение — как все, так и мы — как бы и на руку. Потому что в этом и покорность человеческого стада, и смирение перед лицом судьбы, и отрешенность. Но только палка эта — о двух концах. И на другом конце — спокойное, не плакатное мужество перед лицом испытаний, потому что как все, так и мы. Внутренняя готовность вынести лишения, опасность, холод и голод, потому что как все — так и мы. Невесть откуда берущееся достоинство перед лицом грозящей катастрофы, потому что как все — так и мы.
Вот как сейчас.
Он посмотрел на старую женщину, которую знал, кажется, столько же, сколько помнил себя. Во всяком случае, с того самого дня, когда впервые стоял в школьном дворе с букетиком в руках, готовясь вручить его ей, своей первой в жизни учительнице. Потом, гораздо позже, они сидели рядом и в учительской, и на педсоветах — но все равно оставалась она для него тем же, чем и была. Учительницей. Первой. Навсегда.