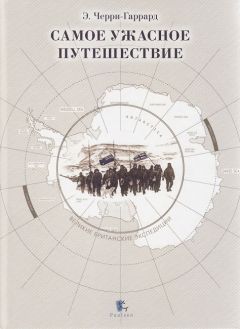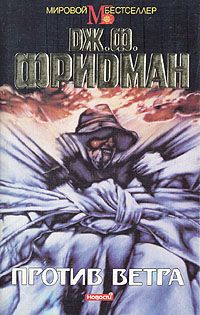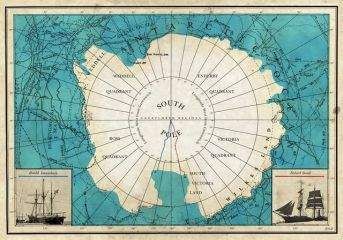Дж. Фридман - Против ветра
— Хорошие новости есть? — спрашивает Одинокий Волк.
Я отрицательно качаю головой. Каждый раз, когда мы встречаемся, он задает этот вопрос не потому, что надеется на хорошие новости — он знает, как только они у меня будут, я тут же сообщу о них, — а потому, что считает его частью своего рода ритуала. Еще одна привычка, которую нужно в себе вырабатывать, чтобы дни тут шли быстрее, как отжимание в упоре на турнике или чистка зубов через определенные промежутки времени, которые ты сам же себе и устанавливаешь.
— Значит, все по-старому.
Я киваю. Не надо было мне приходить. Хотя Одинокий Волк этого и не говорит, мне кажется, что он тоже так думает. Все равно сейчас я не могу ничего ни сказать, ни сделать. Процесс подачи апелляции по делу, завершившемуся оглашением смертного приговора, — долгая история, на редкость утомительная и монотонная процедура (если только не ты сам оказался за решеткой, к тому же впервые в жизни), изобилующая разными заковыками. Что касается соблюдения юридических формальностей, то этот процесс, в общем, во многом идет сам по себе. Ни один судья, ни одни органы правосудия, какими бы суровыми они ни были, в том числе в Техасе, Луизиане, Флориде, где десятки людей убивают под предлогом правосудия и защиты американских интересов, не хотят, чтобы власти казнили человека до того, пока не исчерпаны все имеющиеся у него возможности опротестовать смертный приговор. Как единственное оставшееся во всем мире демократическое государство, которое по-прежнему казнит своих граждан, в данном вопросе нам нужно соблюдать осмотрительность или же делать вид, что мы ее соблюдаем.
Что касается нашего дела или апелляции по нему как таковой, ситуация складывается парадоксальная. Мы слишком хорошо его провели, и сейчас это оборачивается против нас же. Чтобы добиться пересмотра дела об убийстве, за которое полагается смертная казнь, нужно найти какую-нибудь ошибку, желательно грубую, из-за которой исход дела мог бы быть другим. Обычно из-за грубых ошибок защиты аннулируется больше приговоров, чем по любой иной причине. При поганой защите нашим ребятам подфартило бы больше, потому что в этом случае мы имели бы больше оснований для ходатайства о повторном рассмотрении дела.
Но тут — шалишь! Любой адвокат в Нью-Мексико, начиная с больших шишек и кончая мелкой сошкой, знает, что мы сделали максимум возможного. (Если не считать вступительной речи, мы опростоволосились один-единственный раз — при обнародовании заключения коронера, но теперь ясно, что это не имело никакого значения. Так или иначе они все равно подловили бы нас на этих ножах.) И единственное, что остается, — придраться к чему-нибудь из того, что сказал или сделал судья, к чему-нибудь такому, что сделало (или не сделало) обвинение и что требует если не повторного разбирательства дела, то по крайней мере направления его на дознание.
Пока все мои усилия тщетны. Мартинес исполнил свою роль на первоклассном уровне. Иной раз судью можно подловить, когда он дает указания присяжным, говоря, как отнестись к тем или иным показаниям, какие из них не могут быть приобщены к делу. Здесь этого не было и в помине. Более беспристрастного судьи нечего было и желать. Естественно, я собираюсь направлять кипы ходатайств на предмет опротестования принятых Мартинесом решений, но ни по одному из них не добьюсь желаемого. Выиграю только немного времени.
Если мне и удастся разворошить этот гадючник, то лишь с помощью какой-нибудь оплошности, допущенной обвинением. Робертсон и Моузби. Какой-нибудь их промах, что-нибудь такое, что позволит утереть им нос. Я пока не знаю, существует ли такой промах на самом деле, зато знаю наверняка, что для четырех мужиков, коротающих время в камере смертников, это единственный шанс. Но где его раздобыть?
Одинокий Волк все это знает. Он знает, что раскопать новые улики на манер Перри Мейсона, которые бы суд согласился приобщить к делу, переманить на свою сторону какого-нибудь свидетеля, словом, испробовать эти и другие уловки, рассчитанные на то, чтобы пустить пыль в глаза, практически равны нулю. Но он и остальные жаждут другого, и, даже зная все, Одинокий Волк все равно спрашивает:
— Ничего? Черт бы тебя побрал, старина, но ведь какие-то новости должны быть!
— Я делаю все, что в моих силах. Не могу же я выдумывать новости на пустом месте.
— А почему бы и нет? — Он все еще пытается шутить, хотя юмор у него мрачноватый.
— Да потому, что если бы я попался, то пополнил бы вашу компанию. И что бы тогда стало со всеми нами?
Какое-то время мы беседуем, я рассказываю, как дела у его друзей. Кроме меня, к нему не пускают никого, разве что ближайших родственников, а так как он не женат и единственный его родственник брат, из-за которого он тут и оказался, встречаться ему не с кем. Друзей он тоже не видит, даже мельком. Они сидят в камерах на том же этаже, но полностью изолированы друг от друга.
— А как поживает эта шлюха? Ты еще не вывел эту изовравшуюся сучку на чистую воду?
— Нет.
Рита Гомес. Певчая птичка, основная ставка обвинения. Лгунья, каких еще поискать, но нам так и не удалось вывести ее на чистую воду. Вспоминая все, что произошло, я понял, что она оказалась достаточно сообразительной, чтобы выдумать историю, в которую можно поверить с грехом пополам, и достаточно упрямой, устойчивой, чтобы не расколоться. Не важно, какие вопросы ей задавали, главное, что на все у них были свои ответы, и она изо всех сил цеплялась за эти ответы. Ее много раз выводили на чистую воду, но ничего не менялось, она вела себя как ни в чем не бывало, проглатывала все, включая и те небылицы, которые рассказывала. К концу суда она буквально с ног до головы была покрыта наслоениями лжи, как знаменитый кит Моби Дик ракушками. Но и тут она и ухом не повела. Она была слишком глупа, черт побери!
Или… слишком напугана. Да, ее хорошо поднатаскали, очень хорошо. Это не упрек, все натаскивают своих свидетелей, но с Ритой Гомес произошел явный перебор: временами казалось, что это она вместо обвинения рассказывает о том, что произошло. И вроде хочется ей поверить, но не получается, потому что, если поверить, значит, ни за что уже поручиться нельзя. Если власти приговаривают людей к смерти на основании вымышленных показаний, значит, мы снова вернулись в первобытнообщинный период.
После суда я пытался ее найти, но она как сквозь землю провалилась. Никаких следов. Правда, после окончания суда нельзя начать его заново, как нельзя заставить свидетелей снова давать показания, если, разумеется, они не соврали самым беззастенчивым образом, а в данном случае об этом говорить не приходится — она на самом деле была вместе с ними, они ее изнасиловали, она была знакома с убитым и так далее в том же духе. Но я-то знал, да и все мы знали, что кое-каких деталей тут не хватает. Я хотел бы в этом спокойно разобраться, чтобы обнаружить кое-какие зацепки в том, как полицейские натаскивали ее.
Все мои усилия найти Риту Гомес пошли прахом. Она больше не проживала в штате Нью-Мексико. Надежда на то, что мы когда-нибудь ее увидим, столь же призрачна, как и шансы на то, что моим парням удастся выбраться из кутузки. Остается пока одно — если они будут вести себя тише воды, ниже травы, то губернатор, кем бы он ни оказался к тому времени, когда наступит черед рассмотрения их апелляции, аннулирует смертный приговор и дарует им жизнь.
Конечно, обо всем этом я не говорю. Слишком это жестоко — отнимать последнюю надежду. Поэтому мы сидим и беседуем, несем разную чепуху в течение часа, отведенного для встречи.
Пора идти. Мы встаем, положив руки на плексигласовую перегородку, ладонь к ладони, пальцы к пальцам. Этому бедолаге еще долго-долго не касаться рук другого человека так близко, как теперь.
4
Моя новая контора всего-то в двух кварталах от прежней, но вот что касается престижа, то здесь их разделяют несколько световых лет. Это старое, полуразвалившееся здание из саманного кирпича, которое когда-то представляло собой особняк, теперь поделено на множество тесных комнатенок, где обретаются адвокаты-неудачники вроде меня. Вместо привычного мне и полагающегося обычно набора — библиотеки по юридической тематике, секретарш, копировальных машин — здесь только одна секретарша, работающая на полставки, не библиотека, а сплошное огорчение, копировальная машина, которая, как правило, сломана, и кофеварка. И все. Конторы состоят из двух комнат, в каждой кто-то сидит, в передней, как правило, секретарша, в задней — начальник. Может, атмосфера тут не менее замкнутая, чем в крупной нью-йоркской фирме, где старшие компаньоны не знакомы с половиной работающих у них адвокатов, но все равно это ничем не напоминает то место, где я был своим человеком.
Первые два месяца оказались просто тяжелыми: как-никак добрый десяток лет я жил по одному и тому же распорядку дня. Даже когда меня ушли в отпуск без сохранения содержания, я продолжал пользоваться прежним кабинетом. Словно старый пес, дорогу туда я мог найти с закрытыми глазами. А если еще учесть все разлуки и разводы, выпавшие на мою голову, то кабинет был для меня домом даже в большей степени, чем те места, которые я домом называл.