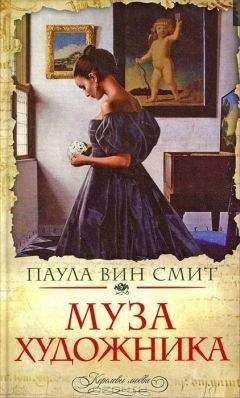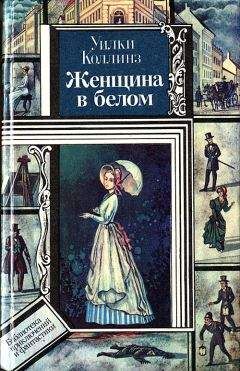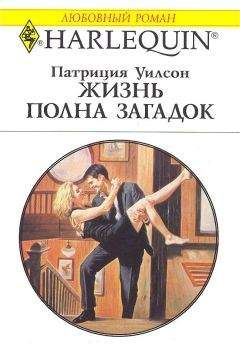Джеймс Уилсон - Игра с тенью
Я заколебалась — но, сознаюсь, лишь на мгновение; ведь если бы леди Мисден желала скрыть эти письма, то не стала бы хранить их; и, взглянув на них сейчас, я не причиню вреда ни ей, ни ее возлюбленному. Но не успела я прочесть и одного предложения, как дверь отворилась и вошла миссис Кингсетт. Когда на нее упал свет лампы, я заметила, что ее глаза покраснели и мокры от слез, и она прижимает к носу платок.
— Мы собираемся обедать, — произнесла она. Ее голос звучал хрипло, и она даже не попыталась улыбнуться. — Вы к нам присоединитесь?
— Боюсь, — ответила я, — что уже достаточно обременила вас и вашего мужа.
Миссис Кингсетт не стала меня разубеждать.
— Но уже поздно. Вы, вероятно, устали.
— Немного. Но я скоро закончу.
Ее голос предательски дрогнул. Она определенно находилась на грани срыва. Надеясь отвлечь ее, я рассмеялась и беззаботно произнесла:
— А затем, обещаю, вы навсегда от меня избавитесь.
Миссис Кингсетт уставилась на меня так, словно исчерпала все свои силы и не представляет, что делать дальше. Но вскоре ошеломленное выражение ее лица сменилось испуганным, и, понуждаемая некоей незримой силой, она бросила взгляд в сторону двери. Это движение вдруг объяснило мне ужасающее поведение ее мужа.
Он ее наказывал. Наказывал за то, что в ее жизненном укладе не находилось для него места и она успешно от него защищалась. Ее полнейшее безразличие сделало его (как он полагал) нулем в пределах собственного дома, лишив даже возможности причинить ей боль. И вот наконец-то судьба ему улыбнулась, нанеся удар, который не мог нанести он сам, и повергла его жену в болезненное, уязвимое состояние, оставив без самого грозного союзника. У него появился шанс отомстить, и он им с наслаждением воспользовался. Поэтому он и настаивал на моем присутствии в библиотеке, поэтому так вел себя. Унижая меня, он унижал ее; демонстрируя мою беспомощность, подчеркивал ее несостоятельность.
Заметив пятна и следы слез на ее бледных щеках, трясущиеся руки, непроизвольное подрагивание рта, я едва не пошла на попятный. Обернись она ко мне еще раз в последней попытке переубедить, я бы мгновенно собралась. Но она была побеждена и удалилась, не сказав больше ни слова.
Я писала столь стремительно, такими каракулями, что с трудом представляю, каков будет результат. Сегодня я слишком измучена, чтобы перечитывать — или, скорее, слишком малодушна, ибо страшусь обнаружить, что все мои открытия ничего не стоят, и, следственно, все испытания, выпавшие на мою долю, — бессмысленная трата времени. И когда я вспоминаю о том, что вынесла, а главное — о том, что пережила из-за меня миссис Кингсетт, то понимаю: примириться с неудачей будет очень трудно.
Завтра я буду сильнее.
XXXIII
Beacoup de mond àParis — впрочем, Вы можете отбросить и «coup», и «de», ибо весь beau mond пребывает здесь или здесь пребывал — Фокс, Лэндсдаун, Морпет, собрание герцогинь, леди Конигем и Холланд, и еще целая тысяча. Все это навевает ужасающую скуку; ведь никто из них не наделен тем единственным качеством, которое способно меня заинтересовать, — то есть не является Вами.
Пытаясь отвлечься от печальных последствий Вашего отсутствия (никакой езды верхом, клянусь, я даже хотел подыскать кучера), вчера я направился в Лувр. Однако находиться там было столь же невыносимо, как и в обществе, и по той же причине: несмотря на все свои достоинства, и Тициан, и Рембрандт, и Рафаэль не изобразили единственное в мире лицо, которое я жажду видеть.
В Лувре я повстречал Вашего друга Тернера, затаившегося подле Пуссена и лихорадочно покрывающего свою записную книжку какими-то иероглифами. Он вздрогнул, завидев меня, и, думаю, поспешил бы скрыться, если бы я не направился прямо к нему и не спросил, когда он намерен возвратиться в Англию. Я подумывал, не доверить ли ему свое письмо (вернее, его так и не написанный вариант, начинающийся словами: «Передаю Вам послание через Тернера»), но, кажется, он был очень недоволен тем, что узнан, и я отказался от этой идеи.
Когда мы прощались, я сказал:
— Знаете, мистер Тернер, вы единственный человек в Париже, которому я завидую.
— Почему? — проворчал он подозрительно.
— Потому что вы увидите миссис Драйвер раньше меня.
XXXIV
Колли сообщает мне, что его не знающие усталости соотечественники снова доставляют неприятности королю — однако теперь, отстояв колонии, они уже не довольствуются тамошними военными действиями, а перенесли их домой, в Королевскую академию. Филадельфийский президент Уэст (я начинаю бояться людей с фамилиями, которые соответствуют назаниям сторон света — Норт лишает нас Амерки; Уэст переносит мятежные настроения сюда; чего же нужно ожидать от господ Ист и Саут,[12] если они вдруг появятся?) взялся за оружие и настаивает: Академический совет должен быть подотчетен лишь академическому Генеральному собранию, а вовсе не королю. Признаюсь, я вижу весьма мало смысла в том, что академия останется Королевской, если короля лишат власти в ее пределах и он будет служить всего лишь козлом отпущения для посредственных художников, жаждущих славы и срывающих на нем свое раздражение. Но Копли опасается, что позиция демократов возобладает.
Как выясняется, один из наиболее страстных демократов — ваш друг Тернер, который плетет заговоры против роялистов не хуже истинного Робеспьера и, встретившись с очередным роялистом, не может сдержать ярости и отвращения. Не кажется ли вам, что его не стоит приглашать на пашу свадьбу? Ведь в результате он может настроить против нас арендаторов, сформировать комитет, превратить церковь в Народный суд и провозгласить наши тела свободными от голов.
XXXV
Тернер, кажется, вновь уклонился от исполнения обязанностей профессора перспективы. Ни одна известная мне женщина не отнеслась бы снисходительно к мужчине, который, спустя больше года после брачной церемонии, продолжает демонстрировать стойкое нежелание посетить супружеское ложе. Однако Академия даже не намекнула на возможность обращения к юристам и врачам или на развод, но скромно улыбнулась и сообщила: вполне достаточно приступить к исполнению обязанностей в следующем году.
XXXVI
Трепещущая новобрачная все еще ждет. Тернер утверждает, что страдает мигренями, поэтому не сможет читать лекций в следующем году.
XXXVII
Должен заканчивать и звать Перкинса, дабы совершить вечерний туалет — но прежде еще чуть-чуть занимательных сведений. Брак наконец-то совершился! Тернер впервые явил себя публике в роли профессора перспективы!
Ларкин (я встретил его у Б.) поведал мне: это самое замечательное из столичных событий, если судить по количеству юмористических публикаций, рисунков в газетах и пр. Лектор уверенно повествует об одном, затем — о другом, пока постепенно не теряется всякий смысл, и Тернер с его аудиторией уже не понимают, о чем идет речь, за исключением того, что говорится явно не о перспективе. Ни фарс, ни комедия с этим не сравнятся, уверяет Ларкин. Академия может продавать билеты по гинее каждый и собрать зрителей со всего Лондона.
XXXVIII
Короче говоря, дражайшая мамочка, мистер Тернер здесь, и он вовсе не таков, каким я ожидала его видеть, — он не груб, не нелюдим, а очаровательно застенчив, жизнерадостен и способен высказать собственное мнение почти по каждому предмету, от Чайльд Гарольда до того, как отражают свет мокрые перья. Мы встретились у меня в саду, когда я пыталась рисовать море и Портсмут. Я страшно смутилась из-за того, что именно он увидел мои рисунки, однако он был очень добр и приложил массу усилий, дабы помочь мне, не выказав ни капли неодобрения либо критики.
Он, мазок за мазком, написал одну из своих conver-sazziones. Представь полотно кисти Ватто, на которое упали капли дождя, прежде чем краска успела высохнуть, — и картина перед тобой.
XXXIX
Жаль, что вас не было с нами прошлым вечером — мы обедали у Натхэмпстедов. Сам обед оказался вполне ординарным, за исключением одного замечательного разшіечения — молодой мистер Смайли, qui veut devenir artiste,[13] как он себя называет, чрезвычайно развлек нас, изображая Тернера, читающего лекцию в Академии. Его салфетка превратилась в записи Тернера — конечно же, потерянные лектором и в итоге обнаруженные под моим стулом. Один из лакеев преобразился в ассистента Тернера (к которому тот адресуется чаще, нежели к аудитории) — и, когда слова молодого Смайли можно было расслышать, они в точности напоминали речь Тернера, непоследовательную и невнятную. Не припомню всего, что он говорил, но апельсин, кажется, оказался «сфероидной формой»; полукруглая арка окна — «полуэллиптической»; а юных «д'жентльменов» из Академии он призвал «в'знести суть пейзажа до поэтических в'сот 'сторической живописи, во славу Британской империи». Прозвучала еще много чего в таком же роде, однако я не все расслышала, увы, de trop rire».