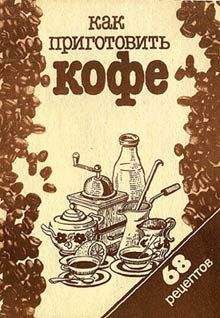Алексей Тарновицкий - Киллер с пропеллером на мотороллере
Потом, уже осенью, я неожиданно наткнулась на Тимченко в рюмочной недалеко от института. Не знаю, кто из нас удивился больше. Заведение располагалось в районе Сенной — самое достоевское место. Наверно, тут был кабак и во времена Федора Михайловича. Я как раз думала об этом, когда увидела Тимченко за соседним столиком, и, чтобы как-то заполнить неловкую паузу, задала первый пришедший в голову дурацкий вопрос. Что-то про чиновника, который здесь «пресмыкался втуне». Это казалось мне очень созвучным моему тогдашнему настроению — пресмыкаться втуне.
Вопрос был ни к селу ни к городу, но Тимченко сразу понял, о чем я. «Вы тоже вспоминаете Мармеладова? — сказал он. — Как же, как же… кого еще и вспоминать в таком месте». Помню, меня поразило это «тоже»: вот уж кого никак нельзя было вообразить пресмыкающимся втуне. Кого угодно, но только не Анатолия Анатольевича Тимченко, похожего на Челентано, делавшего аспирантуру в Японии и читавшего лекции в джинсах «ливайс» и умопомрачительных светлых пиджаках… Если уж Мармеладова вспоминал в таком месте такой человек, значит, и впрямь этот мир съехал набекрень.
Нечего и говорить, что к переэкзаменовке я подготовилась хорошо. Тимченко не стал доставать билетов. Просто спросил:
— Знаете?
Я кивнула.
— На пять?
Я снова кивнула, еще тверже прежнего.
— Давайте зачетку.
Тимченко поставил «отлично», расписался в ведомости и откинулся на спинку стула. В кремовом пиджаке, темной атласной рубашке и модном галстуке в тон он смотрелся просто как кадр из франко-итальянского фильма. Такие мужчины выходят из сияющих лимузинов на красные дорожки отелей Лазурного Берега. Рюмочная у Сенной? Титулярный советник Мармеладов? О чем вы, милочка? Потрясенная этим заграничным блеском, я даже не расслышала следующего вопроса.
— Вы что-то спросили, Анатолий Анатольевич?
Он понимающе улыбнулся:
— Да. Я спросил, получится ли у вас диплом с отличием?
— Теперь получится. У меня за все годы набралось только две четверки. А троек и вовсе была всего одна — ваша.
— Ну, положим, не моя, — запротестовал Тимченко. — Вы заслужили ее самостоятельно. Точка, конец сообщения.
— Вот уж нет, — возразила я, пряча зачетку. — Я заслужила двойку. Так что тройка именно ваша.
Он рассмеялся.
— Ладно, не будем спорить… — Тимченко качнулся взад-вперед вместе со стулом и добавил: — Знаете, Романова, я вам завидую.
— Мне?
— Вам — в смысле вашему поколению. Помните, мы встретились с вами в одном… гм… заведении не вполне общеобразовательного характера?
— Конечно.
— Даже «конечно»… — покачал головой Тимченко. — Честно говоря, я бы предпочел, чтобы это воспоминание растаяло, так сказать, в дымке ваших более поздних впечатлений. Но не в этом суть. Суть в том, что мы тогда говорили о… ну, вы помните.
— Помню, — кивнула я. — О пресмыкательстве.
— Вот-вот. Что ж, тогда имелись некоторые основания для подобных настроений. Некоторые проблемы… гм… с дыханием, что ли. Понимаете?
Я снова кивнула, хотя понимала весьма и весьма приблизительно. А то и вовсе не понимала ни черта. Зачем он говорит это все? Как будто хочет извиниться. Но за что? За ту случайную встречу в рюмочной? За то свое «тоже»? Как-то не в стиле Челентано вести подобные беседы…
— Зато теперь все изменится, — продолжал Тимченко. — Вы даже не представляете, какие предстоят перемены. Теперь, наконец, наведут порядок. Ведь от чего у нас проблемы? От бардака. От воровства. От низкой дисциплины. Люди просто не хотят работать. А почему не хотят? Потому что не видят движения. Все как будто застыло и… пресмыкается втуне.
Но стоит начаться движению, и вы сразу увидите, как все изменится. Пришло время молодых, инициативных, умных людей, с характером и способностями. Таких, как вы. Верьте мне, Романова, я знаю, о чем говорю. Вы позволите дать вам совет?
Что ж, гулять так гулять. Я тряхнула сумочкой с зачеткой:
— После такого легкого экзамена я готова позволить вам намного больше.
Тимченко усмехнулся и погрозил пальцем:
— А вы проказница, Александра. Учту вашу щедрость на будущее. Но сейчас, пожалуй, ограничусь советом. Вы скоро защитите диплом и поступите на работу. Так вот: не ныряйте в болото. Сейчас много всяких контор, где не делают ничего. Играют в шахматы, забивают козла, имитируют бурную деятельность, бухают по-черному и не делают ничего. Пресмыкаются втуне. Понимаю, на первых порах это соблазнительно: уйма свободного времени, не нужно надрываться, рано вставать, поздно ложиться… Но это болото, а сейчас не время для болота. Сейчас время для взлетно-посадочной полосы. Понимаете? Забудьте про болото и ищите своих людей.
— Своих людей?
— Ну да. Тех, кто тоже думает о взлете. А не найдете — приходите ко мне, помогу по старой памяти. Вот так. Точка, конец сообщения.
Я вышла из аудитории, не зная что и думать. Ай да Тимченко, ай да сукин сын! В этого институтского Адриано Челентано были тайно или явно влюблены почти все студентки с нашего потока. Меня же как-то бог миловал: наши отношения с Анатолием Анатольевичем никогда не выходили за рамки ровного взаимного уважения. И вот на тебе — ухитрился напоследок не на шутку взволновать мою невинную девичью душу. «Не ныряйте в болото»… Легко сказать! Согласно распределению, мне было назначено уже с первого апреля приступить к работе в почтовом ящике № 758 — иными словами, в лаборатории Грачева. То есть в болоте, где, пользуясь весьма точным описанием Тимченко, играют в шахматы, забивают козла, бухают по-черному и не делают ничего полезного, пресмыкаются втуне.
А сейчас, видите ли, не время для болота. Сейчас время искать своих людей. Допустим. Но кто они, эти «свои люди»? Сам Тимченко? И кто тогда «свои» для него самого? Если уж откровенно, то как может обычный советский аспирант получить направление в Японию? Да никак — вот как. Для такого хитрого выверта судьбы он непременно должен быть необычным советским аспирантом. То есть либо сынком кого-то очень важного, либо каким-нибудь штирлицем. Какой из этих двух вариантов верен для нашего героя-доцента? Уж никак не первый: будь Анатолий Анатольевич сыном какого-нибудь Анатолия Председателевича Политбюровина, об этом точно стало бы известно. Остается штирлиц. Вывод: «свои люди» Анатолия Анатольевича Тимченко гнездуются в большом сером доме в начале Литейного, то есть там, куда меня саму совсем недавно с понтом привезли на черной-пречерной «Волге». А то и в московском аналоге этого дома на Лубянке.
Этим, собственно, и объясняются его «ливайсы», пиджаки, галстуки и иронические усмешки, а также общая атмосфера заграничной либеральной вальяжности, которая дозволена в институте только ему и никому более. «Теперь все изменилось», — сказал Тимченко. Понятное дело — к власти пришли наконец «свои люди»…
Что ж, если искать следует именно их, то совет Анатолия Анатольевича запоздал: они нашли меня сами. Вот только зачем?
Первым и, видимо, главным следствием разговора с безымянным седовласым полковником и его помощником Сережей стала для меня потеря ощущения дома. Дома как уютного убежища, где можно закрыться, запереться, задернуть шторы, прижаться к маме под пледом и чувствовать себя защищенной от каких бы то ни было внешних безобразий. Ясно, что это представляло собой не более чем иллюзию. Ясно, что и тогда, до прослушанной в Большом доме записи, я теоретически сознавала, что внешние безобразия могут в любой момент стать внутренними. Что они могут позвонить в дверь, а если не откроешь — высадить ее топором. Что они могут по-хозяйски войти, встать грязными сапогами на ковер, на диван, на скатерть. Могут заорать, оскорбить, ударить, забрать, убить. Могут сделать с тобой все что угодно.
Но, как выяснилось, никакое теоретическое знание не в состоянии подготовить тебя к практическому опыту. Теория — это то, что возможно только в принципе, причем со всеми и с каждым. А там, где речь идет о всех и каждом, уже не так и страшно. Потому что если со всеми, то и поделать ничего нельзя, а значит, надо просто зевнуть, поплотнее закутаться в плед и думать о чем-нибудь другом, более веселом. Но попробуй-ка отнесись с таким же равнодушием к тому, что происходит конкретно с тобой!
Попробуй зевни, когда ты точно знаешь, что чьи-то чужие уши вслушиваются в этот зевок! И не только в зевок — в каждое слово, в каждый шаг, в звон тарелок на кухне, в чавканье рта, в скрип кровати, в рев сливного бачка… К этому трудно привыкнуть. Жить с оглядкой вне дома еще куда ни шло — но дома?., дома?.. — на то они и существуют, твои личные четыре стены, чтобы перестать оглядываться. Теперь я была лишена этой возможности.
Конечно, я сразу же предприняла целый ряд дурацких действий — больше для собственного успокоения. Выбросила два наших телефона и купила новые. Тщательно осмотрела люстры, мебель и плинтусы. Переклеила обои у себя в комнате. И, конечно, ничего не нашла. Возможно, жучки были в выброшенных телефонах. Возможно, их уже демонтировали. Что не подлежало никакому сомнению, так это способность соответствующих людей возобновить прослушку в любой удобный для них момент. В любой. Я чувствовала себя совершенно беспомощной перед лицом этой всеобъемлющей вездесущей силы, насмешливо наблюдающей за моими глупыми попытками предотвратить неотвратимое.