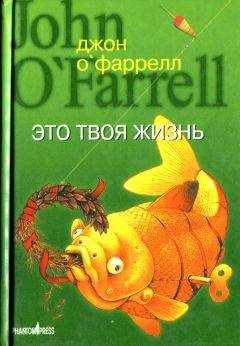Дин Кунц - Предсказание
— Ты хорошо выглядишь, — заметил я.
— Я и чувствую себя хорошо.
— Трудно поверить, что прошло девять лет.
— Может, вам трудно. Мне кажется, что прошло столетие.
Мне не очень-то верилось, что он не затаил на нас обиду. В конце концов, он был Бизо, а эта семейка ненавидела всех и вся. И тем не менее враждебности в его голосе я не находил.
— Да, как я понимаю, у тебя тут много свободного времени.
— Я использовал его с толком. Заочно окончил юридическую школу, защитил диплом. Разумеется, как преступника, меня никогда не примут в коллегию адвокатов.
— Диплом юриста. Это впечатляет.
— Я подавал кассационные жалобы как на свой приговор, так и на приговоры, вынесенные другим заключенным. Вы не поверите, узнав, как много осужденных невиновны в преступлениях, которые на них повесили.
— Они все невиновны? — высказала догадку Лорри.
— Почти все, да, — ответил он безо всякой иронии. — Временами трудно не впасть в отчаяние, понимая, сколь несправедливо общество, в котором мы живем.
— Пирог есть всегда, — вырвалось у меня, прежде чем я понял, что Панчинелло, который никогда не слышал любимой присказки моего отца, может подумать, что у меня не все в порядке с головой.
Панчинелло, однако, воспринял мои слова иначе.
— Да, я люблю пироги, но справедливость ставлю выше. Помимо защиты диплома, я научился свободно говорить на немецком, потому что немецкий — язык справедливости.
— Это почему немецкий — язык справедливости? — удивилась Лорри.
— Честно говоря, не знаю. Слышал, как актер произнес эту фразу в старом фильме о Второй мировой войне. — Он что-то сказал Лорри на незнакомом мне языке, вероятно на немецком, потом перевел: — Этим утром ты прекрасна.
— Ты всегда знал, как угодить девушке.
Он улыбнулся Лорри, подмигнул.
— Я также научился свободно говорить на шведском и норвежском.
— Я не знаю ни одного человека, который бы изучал шведский или норвежский, — заметила Лорри.
— Видишь ли, я подумал, что, принимая Нобелевскую премию, следует обратиться к членам комитета на их родном языке.
— И в какой категории будет эта Нобелевская премия? — полюбопытствовал я.
— Я еще не решил. Может, премия мира, может, по литературе.
— Честолюбие — это хорошо, — одобрила Лорри.
— Я пишу роман. Половина из тех, кто сидит здесь, говорят, что пишут роман, но я действительно пишу.
— Я думал о том, чтобы написать что-то документальное, — поделился я с ним своими мыслями, — автобиографичное.
— Я сейчас на тридцать второй главе, — мои планы Панчинелло не интересовали. — Мой герой только что узнал, насколько злобен этот воздушный гимнаст. — Он что-то произнес, возможно, на норвежском или шведском, потом перевел: — Скромность, с которой я принимаю эту награду, эквивалентна мудрости вашего решения вручить ее мне.
— Они расплачутся, — предрекла Лорри.
И пусть я не сомневался в безумстве Панчинелло, его достижения произвели на меня впечатление.
— Защитить диплом по юриспруденции, выучить немецкий, норвежский и шведский, начать писать роман… мне бы на это потребовалось гораздо больше девяти лет.
— Секрет в том, что я могу разумно использовать большую часть моего времени и концентрироваться на главном, не отвлекаясь на яйца.
Я понимал, что рано или поздно нам придется коснуться этой темы.
— Мне очень жаль, что все так вышло, но ты не оставил мне выбора.
Он небрежно взмахнул рукой, словно потеря мужского хозяйства особого значения не имела.
— Не будем никого винить. Что сделано, то сделано. Я не живу в прошлом. Я живу ради будущего.
— В холодные дни я хромаю, — признался я.
Он погрозил мне пальцем, звякнув цепью, которая пристегивала руку к кольцу на столе.
— Нечего хныкать. Ты тоже не оставил мне выбора.
— Полагаю, это правда.
— Я хочу сказать, если мы будем мериться виной, то главный козырь у меня. Ты убил моего отца.
— Если бы только твоего, — вздохнул я.
— И ты не назвал своего первого сына в его честь, как обещал. Энни, Люси, Энди, никакого Конрада.
Холодок пробегал у меня по спине, когда он перечислял имена наших детей.
— Откуда ты знаешь, как их зовут?
— Прочитал в газетах в прошлом году, после всей этой суеты.
— Под суетой ты подразумеваешь его попытку убить нас и похитить Энди? — спросила Лорри.
— Расслабься, расслабься, — Панчинелло лучезарно улыбнулся. — Нам тут делить нечего. Иногда с ним было трудно.
— Может, «трудно» — это мягко сказано? — спросила Лорри.
— Пусть будет трудно. Кому знать об этом лучше меня? Может, вы помните, но девять лет тому назад, в подвале под банком, когда всем еще было весело и хорошо, я сказал вам, что у меня было холодное, лишенное любви детство.
— Сказал, — кивнул я. — Именно так ты и сказал.
— Он пытался быть мне хорошим отцом, но не было в нем родительских чувств. Вы знаете, что за все годы, которые я здесь провел, он ни разу не прислал мне ни рождественской открытки, ни денег на сладости?
— Это плохо, — и я действительно, пусть и немного, посочувствовал ему.
— Но, разумеется, вы приехали сюда не для того чтобы мы могли рассказать друг другу, каким он бы мерзавцем.
— Если уж на то пошло… — начал я.
Он поднял руку, останавливая меня.
— Прежде чем вы скажете, зачем приехали, давайте обговорим условия.
— Какие условия? — спросила Лорри.
— Вероятно, вам нужно от меня что-то важное. В бы не приехали сюда, чтобы извиниться за то, что кастрировали меня, хотя я был бы вам признателен, если бы приехали. Если вы хотите что-то от меня получить, я имею право на компенсацию.
— Может, тебе лучше сначала узнать, что нужно нам? — возразил я.
— Нет, сначала я бы хотел поговорить о компенсации, — Панчинелло покачал головой. — А потом, если я сочту, что отдаю больше, чем получаю, мы сможем пересмотреть условия сделки.
— Хорошо, — кивнула Лорри.
— Прежде всего, я хочу ежегодно получать две поздравительные открытки, девятого августа, с днем рождения, и к Рождеству. Здесь многие парни изредка получают открытки, а я — никогда.
— Две открытки каждый год, — согласился я.
— И не какие-нибудь дешевки или с надписями, которые вроде бы забавные, а на самом деле злобные, — уточнил он. — Что-нибудь от «Холмарка»[65], с душевным стихотворением.
— «Холмарк», — согласился я.
— Библиотека здесь плохонькая, и мы можем получать книги только от издателя или из магазина, но не от частных лиц, — объяснил он. — Я бы очень хотел, чтобы вы договорились с каким-нибудь магазином. Пусть присылают мне каждый новый роман Констанс Хаммерсмит. В формате покетбук[66].
— Я знаю эти книги, — кивнул я. — Она пишет о детективе, страдающем неврофиброматозом. Он мотается по Сан-Франциско в плаще с капюшоном.
— Это знаменитые книги! — воскликнул он, довольный тем, что мы разделяем его литературные пристрастия. — Он похож на Человека-слона, и никто никогда его не любил. Над ним смеются, он — изгой, ему бы плюнуть на всех, но он не может. Помогает людям, попавшим в беду, когда ни от кого другого ждать помощи уже не приходится.
— Она пишет по два романа в год, — сказал я. — Ты будешь получать их сразу после публикации покетбуков.
— И последнее… мне разрешено иметь денежный счет. Мне нужно немного денег на сладости, жевательную резинку, чипсы.
Каким же жалким он оказался монстром.
— Деньги — не проблема, — заверила его Лорри.
— Много мне не нужно. Долларов пятьдесят в месяц… даже сорок. И не на всю жизнь, но на достаточно длительный срок. Без денег здесь адская жизнь.
— Когда мы объясним, почему мы здесь, ты поймешь, что мы не сможем дать тебе денег, — сказал я. — Но я уверен, что мы найдем человека или благотворительный фонд, который будет каждый месяц посылать тебе эти пятьдесят долларов, если ты будешь держать язык за зубами.
Он просиял.
— Как мне это нравится! Читая Констанс Хаммерсмит, самое оно — жевать шоколадный батончик.
Уродливый, скрывающий лицо под капюшоном детектив обожал шоколад. И любил играть на клавесине.
— Клавесин мы тебе передать не сможем, — предупредил я.
— Ничего страшного. Музыкального таланта у меня все равно нет. Только то, о чем мы договорились… я сразу почувствую разницу. Жизнь тут такая… слишком много ограничений, так мало радостей. И они относятся ко мне так, будто я убил тысячу людей.
— Нескольких ты убил, — напомнила ему Лорри.
— Но не тысячу. И колокольня, которая упала на старушку. Я же не собирался ее убивать. Наказание должно соответствовать масштабу преступления. — Тут Панчинелло наклонился вперед, положил скованные руки на стол. — Ладно, хватит об этом. Теперь мне не терпится узнать, что привело вас сюда?