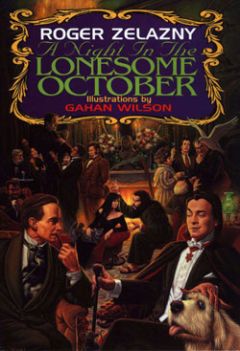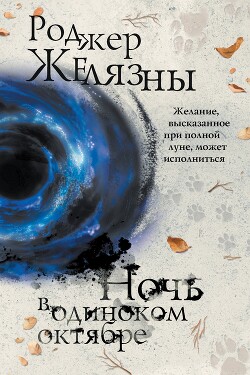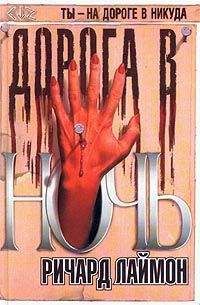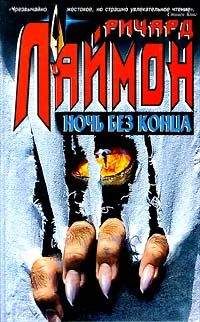Ночь в тоскливом октябре (ЛП) - Лаймон Ричард Карл
Я едва не засмеялся, но не хотелось потакать его самомнению.
— Вино хорошее, — сообщил я.
— Благодарю.
— Кто его выбрал за тебя?
— Ах, Логан.
— Ах, Киркус. Не желаешь ли присесть?
— Мерси, — сказал он и побрел к креслу. Встав перед ним, он развернулся и посмотрел на меня. Сделал глоток вина. Затем сказал: — Я искренне тронут твоим гостеприимством и любезным приглашением на ужин.
— У меня есть стойкое впечатление, что ты сам себя пригласил.
— Неужели? — улыбнувшись, он сел в кресло.
— Насколько я помню, — сказал я, и опустился на диван, сохраняя безопасную дистанцию от него.
— А насколько я помню, ты попросил меня о некой услуге, и любезно пригласил в гости в знак благодарности.
— Что-то типа того.
— Ты ведь правда благодарен за мой обет молчанию, я верно истолковал твои слова?
— Твой обет мне не особо интересен, а вот молчание — да.
Неприятно улыбнувшись, он отхлебнул еще вина.
— Если рассчитываешь на мое содействие, тебе надлежало бы обходиться со мной со всем приличествующим тактом.
— Надлежало?
— Ну вот, опять.
— Тысяча извинений, сударь.
Приподняв обе брови, он спросил:
— Ты желал бы, чтобы я ушел? Я ведь могу, как ты понимаешь. Могу элементарным образом освободить твое жилище от моего докучающего присутствия…
— «Вынь свой жёсткий клюв из сердца моего…» [51]
Он встал на ноги.
Оставаясь на диване, я похлопал раскрытой ладонью воздух, сказав:
— Сидеть, сидеть! К ноге! Шучу. Оставайся. Я пообещал тебе ужин. Айлин тебя ожидает. Она даже закупается на троих. Мы с ней будем премного разочарованы, если ты заставишь нас ужинать, не почтив своим присутствием.
Киркус сел. Улыбнулся. Затем сказал:
— Ты такой дундук.
— Хочешь заключить перемирие? — спросил я.
— Заключение перемирия подразумевает состояние войны. У нас с тобой война, Эдуардо?
Я пожал плечами.
— Не сказал бы. Война интеллектов, разве что.
— В которой ты имеешь досадно скромный арсенал.
Я попытался было придумать остроумный ответ, но ничего достойного в голову не пришло — чем я, возможно, подтвердил его правоту.
Он с самодовольным видом посасывал вино.
Я сказал:
— На самом деле, я был когда-то великолепно умен, остроумен и сведущ в светской жизни — но потом некие злодеи украли мой аскот.
— Ох, какая тонкая острота!
— Ноэл Кауард [52]и Сомерсет Моэм [53] гнались за мной три квартала ради него, пока не отняли.
Без малейших признаков улыбки на лице, Киркус поставил свой бокал на журнальный столик, потянулся к своей шее обеими руками, развязал шейный платок и протянул его мне.
— Возможно, тогда тебе стоит позаимствовать мой, — сказал он.
Пять больших синих букв были вытатуированы на его горле:
П И Д О Р
Глава 46
— Она настоящая? — спросил я. — Реальная татуха?
— Разумеется, она настоящая.
Может и настоящая, но непрофессиональная. Из тех татуировок, что человек может сам себе набить при наличии иглы, чернил, трясущихся рук и при полном отсутствии художественного таланта.
— Блин, чувак, — произнес я. — Чем ты вообще думал, когда это делал?
— Это не я сделал ее себе, дорогой мой приятель. Меня вообще особо не спрашивали.
— То есть, кто-то сделал это с тобой?
— О да.
Я, должно быть, выпучил глаза, словно оглушенная рыба, и Киркус это заметил.
— Быть может, тебе понравится об этом услышать, — сказал он. — Ты, похоже, питаешь особое пристрастие к различным экстравагантным мерзостям и болезненным патологиям. Возможно, я даже придусь ко двору в одном из твоих рассказов.
Я помотал головой:
— Нет, не стоит. Правда, не надо. Давай-ка ты наденешь свой галстук обратно?
— Пусть он послужит тебе заменой тому, что похитили Кауард и Моэм, — сказал он, и швырнул мне аскот. На полпути между нами, шелковый платок развернулся в воздухе и плавно опустился на пол.
Я подошел туда, сел на корточки и поднял его. Подойдя к Киркусу, я сказал:
— Представления не имел раньше, что ты их носишь, чтобы скрывать татуировку.
— Ты так считаешь?
— А разве не для этого?
— Для этого, а также потому, что это стильно.
Тихо рассмеявшись, я протянул ему галстук. Он выдернул его из моих пальцев.
По пути обратно к дивану, я услышал, как он говорит:
— Не буду тебе рассказывать всю печальную историю. Только вкратце.
— Ты не обязан вообще ничего мне рассказывать, — сказал я, садясь на диван.
— О, но история может оказаться как раз «в твоем вкусе», если можно так выразиться. Все очень мрачно, извращенно, жестоко, грязно и банально.
— А, ну спасибо. В таком случае, я должен это услышать.
— Я знаю.
— Если история так хороша, может, тебе лучше приберечь ее для Айлин, а то она скоро придет.
— Это вряд ли было бы подобающе, — он обернул платок вокруг шеи и начал завязывать галстучный узел. — Данная история предназначена сугубо для твоих ушей.
— Ты уверен, что хочешь мне ее рассказать?
— Таким образом мы оба станем хранителями определенных тайн друг друга.
— Ты сказал, что я смогу об этом написать.
— Когда-нибудь.
Я бросил взгляд на часы. Без четверти пять.
— Может, лучше в другой раз.
— О нет. Я настаиваю, — он сделал еще глоток вина, затем продолжил: — Я уверен, что пролог истории покажется тебе довольно знакомым: слишком чувствительный мальчик, растущий без отца, с неугомонной гипер-опекающей матерью. К мальчику пристают неандертальцы-одноклассники в школе. Он находит убежище в безопасности книжных страниц. Все это ужасно банально и предсказуемо…
Я отхлебнул вина и пожелал оказаться где-то в другом месте.
Если мне хоть немного повезет, Айлин позвонит в дверь прямо сейчас.
— Другие ребята насмехались и обзывали меня по-всякому.
«Прямо как Рудольф, Красноносый Олень Санты» — подумал я, и испытал странный позыв засмеяться. Затем осознал, что Киркуса зовут Руди, что и есть сокращение от Рудольфа. Его имя теперь казалось мне причудливой, и не-особенно-то-смешной шуткой.
— Я не мог и шагу ступить по школьному коридору, — пояснил он. — Чтобы кто-то не толкнул меня, подставил подножку или выбил из рук учебники. На переменах и обеденном перерыве, любимым их развлечением было схватить меня и запихнуть в мусорный бак. Иногда, несколько хулиганов стягивали с меня штаны и убегали с ними. И разумеется, меня регулярно били. Короче говоря, я рос без друзей, никому не доверял, боялся и презирал моих мучителей. Что, в общем-то, не сильно отличается от детства многих других парней.
— Я знаю таких, — сказал я. Вообще говоря, в свои школьные годы, я и сам находился разве что на ступеньку-другую выше в социальной иерархии, а дружил с пацанами, которым приходилось и похуже меня. Но я не мог сказать об этом Киркусу. Нельзя вот так сказать: «подумаешь, да один из моих лучших друзей был ботаном… или геем… или чернокожим… или евреем…» Может, это и правда, но просто нельзя такое говорить. Есть много таких вещей, про которые нельзя сказать.
Поэтому я промолчал про веселую компашку отбросов школьного общества, с которыми в те дни тусовался.
После глубокого вздоха, Киркус продолжил:
— Иронично, что меня обзывали педиком, гомиком и пидором задолго до того, как я приобрел какой-либо сексуальный опыт с кем бы то ни было: мальчиком, девочкой или утконосом. Очевидно, моя внешность и манеры были вполне достаточным поводом.
— Что-то совсем жесть, — сказал я.
— Ты можешь не верить, Эд, но я был добрым и мягким юношей. У меня тогда еще не сформировался ни этот равнодушно-циничный характер, ни самодовольная напыщенность, что тебя, по-видимому, столь раздражает.