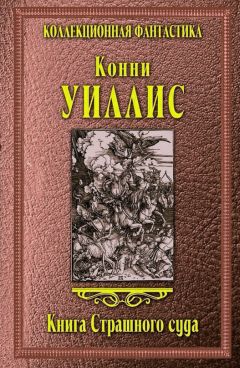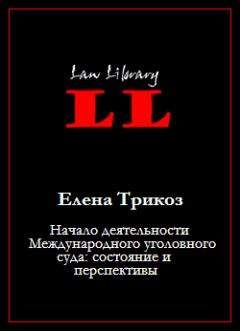Виктор Каннинг - Дерево дракона
До сих пор ее мысли были заняты только собой и Нилом. То, как она объявит о своем решении Тедди, было для нее вопросом будущего. Но все время откладывая его на потом, она совсем не задумывалась, как именно это произойдет. Сейчас вопрос встал перед нею, что называется, ребром. Она должна сообщить ему.
Господи, как это ужасно: все равно что взять нож и собственноручно вырезать любовь из сердца другого человека, вырезать все, что некогда связывало их… Она закрыла глаза и содрогнулась. Но ей придется сделать это, и она знала, что потом всю жизнь будет ненавидеть себя за то, что сделала…
***
А тем временем в Море, в баре, владельцем которого оказался забавный человечек с вывернутой рукой", словно бы просящей подаяния, Эндрюс и Гроган весело проводили свое свободное время. Они уже порядком накачались, беседа их становилась все сбивчивей, временами принимая грубоватую форму, но обоим было наплевать на хорошие манеры. Перед ними стояла бутылка «Фундадора», но каждый из них по давно укоренившейся привычке уже прикупил по запасной бутылочке бренди, которые, кое-как рассованные по карманам, теперь выпирали на теле словно огромные опухоли. Они очень хорошо знали, что питейные заведения имеют странное обыкновение в разгар ночи куда-то исчезать, и ты вдруг оказывался лежащим где-нибудь на улице под дождем. Вот тогда-то тебя и может спасти заблаговременно сделанная заначка. А иной раз сиротливо бредешь в туманной дымке, пытаясь разобрать, где находишься, и вдруг нащупываешь в кармане до боли родную выпуклость. Оба прекрасно знали, что шлюпка, ждущая матросов из увольнительной, отходит от берега в полночь и что и на этот раз они не попадают на нее. Приятели с довольным видом улыбались друг другу, а Эндрюс еще пытался кое-как рассуждать:
– А вывих у него…, вероятно, врожденный. Тяжелые роды… Может, даже родовс…, вспомог-гательную операцию делали. Ухватился в последний момент ручонкой, вот и вывернул, да так и остался на всю жизнь. – Эндрюс пощупал синяк под глазом и улыбнулся.
– Кто его знает, – пробубнил Гроган и замычал себе под нос известную песенку о том, что каждый младенец обязательно появляется на свет уже или либералом, или консерватором.
Лицо Эндрюса на мгновение омрачилось – когда Гроган начинал петь, это не предвещало ничего хорошего. Но, прислушавшись к мотиву, он успокоился и даже заулыбался. Вот когда Гроган затягивает матросскую, тогда держись…
К ним подошел кто-то из команды и напомнил о том, что пора возвращаться на судно.
Гроган уставился на него стеклянными глазами, а Эндрюс с суровым достоинством проговорил:
– Должен признаться, твоя родословная представляет значительный интерес. Хочешь расскажу? Генеа…, генеалоги…
Матрос усмехнулся:
– Ишь ты, язык-то как заплетается. Да ты и за три дня это слово не выговоришь.
Эндрюс попытался было встать на ноги, но Гроган удержал его.
– Сиди. Лучше я, – сказал он другу.
Но прежде чем он успел подняться, матроса уже и след простыл, что было с его стороны весьма предусмотрительно. И, чтобы утешиться, приятели налили себе еще по стаканчику бренди.
Глава 12
Через час после наступления темноты Миетус и его группа покинули свое укрытие. Выстроившись цепочкой по одному, они двигались в сторону Форт-Себастьяна. На вершине гребня, спускавшегося к морю, они остановились.
Сифаль молча отстегнул радиопередатчик и установил его среди камней. Остальные бесшумно растворились в темноте, образовав вокруг него невидимый заслон. Спустя час группа уже расположилась на вершине небольшого плато, выходившего на Мору.
В деревушке и в форте кое-где горел свет, на воде колыхались огни стоявшего в гавани «Дануна». Душная, безветренная ночь дышала жаром земли. Далеко на севере пробивался сквозь ночную мглу слабый свет сан-бородонского маяка. В это время года поздно темнело, рано светало. Сейчас уже перевалило за одиннадцать.
– Прием прошел нормально. Завтра в десять утра Макс будет ждать нас у побережья Ардино, – сообщил Сифаль. Он говорил по-немецки нараспев, с забавным восточным акцентом, к которому Миетус до сих пор никак не мог привыкнуть. Временами слова сливались в один неразборчивый звук, и лишь немного погодя можно было разобрать, что Сифаль говорит по-немецки.
– Хорошо, – заключил Миетус. Все молча ждали, что он скажет. Он давно привык к этому – менялись задания, менялись люди, но все они всегда затаив дыхание ждали, что скажет он. Эта молчаливая готовность доставляла истинное удовольствие, хотя он был достаточно умен, чтобы понимать, что королевство, в котором он царит, всего лишь жалкое подобие настоящей власти. Но он нес этот венец с достоинством, так как знал, что это его единственные владения. Он всегда с нетерпением ждал того момента, когда будет шагать, как вожак во главе волчьей стаи, и всякий раз другой, давно умерший Миетус ждал этого момента вместе с ним. За долгие годы безо всякого сожаления и горечи, даже с какой-то трепетной радостью он научился доставлять удовольствие умершему Миетусу. Если бы тогда, много лет назад, грохочущая громадина не придавила его, то сейчас он мог бы уже занимать солидный пост и иметь кучу помощников… Закрыв глаза, он представил себя преуспевающим архитектором где-нибудь в Гамбурге или Дюссельдорфе, отчетливо увидел свою жену, роскошную блондинку с античным мраморным лбом и вьющимися белокурыми локонами…, детишек, весело играющих в их квартире в одном из престижных кварталов. Эти фантазии, исполненные печального тевтонского романтизма, рождали в нем ощущение героического пафоса, и он говорил себе: «Я дерево, не дающее ростков. Я Вальтер Миетус, жалкое, искалеченное войной существо». При этой мысли он неизменно улыбался, так как ощущение собственной ничтожности и безнадежности поднимало в его душе волну яростной горечи, способную сокрушить все на своем пути.
Наконец он заговорил. В голосе его звучали отцовские нотки, словно он и вправду испытывал отцовские чувства к находящимся рядом с ним людям, однако они не обольщались на этот счет, ибо очень хорошо знали, что эта нежная теплота вызвана не любовью к ним, а сочувствием к себе. Он очень беспокоился, чтобы эту картину не нарушило малейшее недопонимание или сомнение, и, случись подобное, гневу его не было бы предела.
– Восход солнца в пять пятнадцать, – сказал он. – Мы должны быть внутри в четыре сорок пять. Отсюда выйдем ровно в четыре. Движемся цепью, по одному, интервал три ярда. Лоренцен и Сифаль возьмут на себя часовых в сторожевой будке. Стрелять только в случае крайней необходимости.
Действовать ножом. Плевски и Роупер сразу прямиком в казарму. Первым делом завладеете оружием. Сифаль и Лоренцен приведут туда часовых из будки и запрут их с остальными.
После захвата казармы Плевски и Роупер берут на себя повара и сержанта. Оба занимают комнаты рядом с кухней. Если те поднимут тревогу и успеют выскочить из своих комнат до захвата казармы, стреляйте из автоматов на поражение. Потом Роупер и Плевски берут на себя лестницу, ведущую в комнаты офицеров. Я тем временем нейтрализую часового в Колокольной башне и выпускаю полковника Моци и остальных.
Постараюсь убрать часового тихо. Если не удастся, буду стрелять. Мой выстрел – первый сигнал тревоги…
Его ровный, бесстрастный голос придавал картине предстоящего захвата законченную ясность, отчего все его действующие лица казались словно бы ожившими. Он воочию представлял себе часового на галерее, который будет застигнут врасплох и слишком поздно сообразит, что надо бить тревогу…
– И помните, губернатор нужен нам живым, – продолжал он. – Любое сопротивление подавлять беспощадно. Пусть знают, что мы не шутим. Все должно пройти без запинки, за нами преимущество внезапного нападения. Но не забывайте: никогда нельзя ни на что полагаться до конца, всегда может случиться непредвиденное. Всегда найдется какой-нибудь дурак, готовый пасть смертью храбрых… Вопросы есть?
– В маленькой комнате тоже будет часовой? – спросил Роупер.
– С ним я разберусь сам.
– Во всех помещениях выключатели расположены справа от двери? – Это был вопрос Лоренцена. – Точно во всех?
– Да.
Больше вопросов не было.
– Хорошо, – сказал Миетус. – Перед выходом проверим оружие. Я возьму оружие для Моци, Шебира и Абу…
– Ах там еще и Абу, – усмехнулся Плевски. – Я совсем забыл про него. Значит, когда все закончится, мы имеем шанс получить по чашечке кофе.
Миетус прислонился спиной к скале и закрыл глаза. Ни он, ни остальные не хотели спать. Все они, давно привыкшие доверять только своим глазам, молча лежали в темноте, настороженно прислушиваясь. Миетус был прав, когда говорил, что ни на что нельзя полагаться до конца, кроме собственной силы и ловкости. Теперь же, в преддверии грядущих событий, они могли ненадолго расслабиться и подумать о чем-то обыденном. Сифаль представлял, как встретится с Абу. Они были родом из одной горной деревушки и даже состояли в отдаленном родстве, что было неудивительно для киренийской деревни. Сифаль сам присутствовал при том, как Абу впервые убил человека… Он улыбнулся, вспомнив, как Абу стоял с окровавленным ножом в руке и с выражением искреннего удивления на лице – должно быть, он совсем не ожидал, что убийство окажется таким простым делом. А Лоренцен, почесывая комариный укус на щеке, как всегда, думал о своей арабской кобыле, которая прибегала на его свист, а если надо, то могла по его знаку завалиться набок, изображая мертвую. И, вспомнив ее гладкую, лоснящуюся шерстку, ее величавое и гордое достоинство и терпеливый нрав, он, презрительно сжав губы, не мог не сравнить ее с другими животными, которые всегда шарахались от него… И только эта лошадка, несущаяся по пескам пустыни захватывающим душу вихрем, только она любила его… А Роупер, закрыв глаза, думал о бридже… Сданная на четверых колода, торг о взятках, мелькание карт… Плевски же, глядя вдаль, на мерцавшие в гавани огни «Дануна», вспоминал своего отца, который хоть никогда и не видел моря, любил вырезать для него крошечные фигурки кораблей из мягкой древесины ящиков из-под рыбы…, и свою мать, похороненную под руинами разгромленной Варшавы…