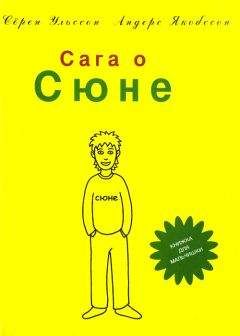Анна и Сергей Литвиновы - Изгнание в рай
«Я еще могу позвонить, – отчаянно думала Настя. – Если я позвоню… они его остановят уже в Капилейре!»
Но руку, что тянулась к телефону, словно парализовало.
А вот сумочка, где лежали ключи от «Пежо», паспорт и кредитные карты, прыгнула в руку сама.
Анастасия выждала, когда рев «Фольксвагена» окончательно растворится в ночи, и побежала в гараж.
«Прощай, Томский, и делай теперь что хочешь. Спасибо, что не стал убивать.
У меня есть шанс в третий раз начать новую жизнь.
Я никогда не стану счастливой, но хотя бы деньги у меня теперь есть».
* * *Сева давно уже был в раю. Пах рай почему-то детским садиком – сладкой кашей, мочой, пластиковыми ведерками. И еще очень жарко было. Ну да. Райские кущи. Это вам не Арктика. В ушах приятно жужжало. Пчелы. Собирают мед с чайных роз. Изредка накрывала тошнота, но не раздражающая, а приятная. Словно объелся пряников или конфет.
А потом вдруг запахло морем. Воздух свободы. Нет, не так. Воздух свободной Европы! Как он был в ней счастлив…
Дальше вдруг: металлический скрежет. Приятное покачивание, словно в колыбели, прекратилось. Он по-прежнему ничего не видел. Только чувствовал – сильные руки схватили, швырнули. Грубо, сильно, но на мягкое.
Тишина. Шорох моря. Полная темнота.
Потом рядом – плюх! – свалилось еще что-то.
Взревел мотор, мерзко завоняло выхлопными газами. А дальше – только плеск моря. Накатилась волна – ушла. Накатилась – ушла. И еще, и еще…
Сева осмелился пошевелиться. Руки двигались. Он дернулся, попытался разорвать свой пластиковый кокон – и все получилось. В один прием, легко.
Он сидел – по пояс – в черном пластиковом мешке. Перед ним шумело море. Рядом – валялась его же борсетка. Он брал ее – когда? В прошлой жизни? Да. На концерт фламенко…
Небо пока что было серым, ночным, но на востоке уже проглядывала розовая полоска.
Начинался рассвет. Рассвет не в раю – на планете Земле. Рассвет в обычной жизни, с которой он давно попрощался. Рассвет, черт возьми! И море, и жизнь! Раны на теле аккуратно заклеены пластырем. Кровь не идет. Голова соображает. Он свободен!
Но у Севы даже не было сил разрыдаться.
* * *В этот раз Хуан надумал ночевать в апельсиновой роще. Тишина, ароматы. А если совсем развезет, кислятиной, что растет на деревьях, и закусить можно.
Он выбрал апельсиновый ствол пошире да поглаже, привалился к нему спиной, укрыл ноги рваным пледом (всегда с собой таскал, для уюта) – и приступил к действу.
Черные капли рома в черной ночи. Звезды и одиночество. Одуряющий запах апельсинов. Хуан называл себя эстетом – и никогда не пил где-нибудь на помойках.
Но ровно в тот момент, когда бархат неба и нектар рома сплелись в абсолютную гармонию, тишину ночи взорвал омерзительный трескучий звук.
Какая сволочь ездит здесь на машине? Да еще явно прорывается сквозь деревья, с треском ломает ветки?
Хуана трусом не назовешь, но с полицейскими дела иметь не хотелось. Потому торопливо закрыл бутылку, бросил ее в сумку. Уложил туда же верный плед. Но сматываться не стал. Прежде надо посмотреть, что там такое.
Звук мотора затих.
Бездомный подошел поближе.
Los locos[7], зачем было вламываться в апельсиновую рощу на огромном «Фольксвагене»?!
Уже готов был выйти из тьмы и заорать, но увидел черную фигуру, что выпрыгнула с водительского места, и предпочел остаться в тени.
Оказалось, правильно сделал.
Потому как дальше водила в низко надвинутой на глаза шапочке открыл заднюю дверь и выволок на землю пластиковый мешок.
Труп?!
Хуан облился ледяным потом.
Нет, шевелится.
Он прищурился. Вот из мешка голова показалась, голые плечи, грудь… Баба! Да еще старая!
Хуан перекрестился и начал медленно отступать.
А водитель «Фольксвагена» вернулся в свой рыдван и попер дальше – ломались ветки, разлетались в стороны апельсины.
По счастью, безумие длилось недолго. Минут через пять шум стих. А еще через две округу потряс такой сильный взрыв, что весь ром и вся гармония немедленно вышли наружу.
Перепуганный, жалкий, на ходу вытирая рвоту, Хуан бросился было прочь. Но проявил благородство, вспомнил про бабу. Вернулся, увидел.
Она – голая, зато с сумкой! – тоже улепетывала со всех ног.
Хотя старенькая, а бежала резво.
Да еще и выкрикивала что-то – по-русски.
Хуан неодобрительно покачал головой.
В последнее время понаехало этих бывших советских немало, и от них, он считал, в Испании все беды.
Даже выпить спокойно не дадут.
* * *Утро в Гранаде пахло рыбой и горячими булками. А еще (Томский чувствовал совершенно отчетливо) в воздухе ощутимо витали ароматы – нестираных носков и потных футболок. Сначала было решил – привычно – галлюцинация. Обонятельная. А потом заметил: пешком, бегом, на мопедах по городу мчатся студенты. Красноглазые, встрепанные, с перегарчиком. Сразу видно: развлеклись ночью отменно, даже вымыться-переодеться времени не нашлось. От них и воняет. Зато честно спешат в свои альма-матер, умники.
Томский (его футболка тоже была не самая чистая) почувствовал себя в утренней толпе еще больше своим. Остановился у уличного лотка, навернул горячих креветок из треугольного, хрустящего пакетика. Обжег губы кофе.
Солнце припекало жарче, асфальт горячел, обволакивал маревом. Михаил бездумно толкался в утренней толпе и пытался понять: хорошо ему? Или плохо?
Вдруг увидел: впереди мелькнули двое. Очень знакомые. Худая, нескладная, чуть похожая на циркуль женщина вела за руку девочку лет восьми. С золотистыми косичками.
Михаил ускорил шаг, обогнал, обернулся. Испанки – мать и ребенок – вежливо ему улыбнулись. Ничего знакомого в их лицах. И у него на душе – ни страха, ни тоски.
И никаких галлюцинаций.
Дьявол, неужели Настя оказалась права?! Эта красивая, никчемная, полностью ему подвластная кукла подсказала правильный путь?!
Прости врага – и излечишься сам?!
Томский резко остановился. Еще один уличный лоток, в девять утра продают горячее вино. Пить ему нельзя. Тем более рано утром. Но купил большой стакан, хватанул залпом. В голове приятно зашумело.
Где вы, неизбежные, верные спутники опьянения? Злость, ненависть, бессилие?
Прислушался к ощущениям, превратил всего себя в мощный локатор – и расхохотался. Потому что вдруг представил Севку, израненного, голого, полностью седого – и не гнев накатил, но жалость.
Да, не мститель ты, Томский. Не граф Монте-Кристо. Не смог пойти до конца.
Михаил танцующей походкой пошагал дальше. Отчего-то казалось: весь его сегодняшний путь по утренней Гранаде не случаен, но предопределен свыше.
И точно: вдруг, в конце извилистой улочки, он увидел вывеску: Internet-Cafe.
Толкнул скрипучую дверь, вошел в полумрак. Парень с длинной цыганской серьгой в левом ухе лениво поднялся от стойки, снисходительно вскинул бровь:
– Сеньор желает Интернет?
Презрительно-жгучие очи посмеивались: «В ваши годы надо газетки в шезлонге читать».
Но провел к убогенькой, старой машине.
Томский не подумал, что будет благоразумнее притвориться лохом – сразу занялся делом. Минут через десять случайно обернулся – и наткнулся на взгляд хозяина кафе. Тот так и стоял за его спиной, полностью завороженный сумасшедшей гонкой цифр на мониторе. Рот разинут, глаза дикие.
– Ha ido al Diablo![8] – рявкнул на него Михаил.
Парень сразу скукожился, засеменил прочь. Томский расслышал: «El genio!»
Обычно комплименты были безразличны. А сейчас было приятно.
И еще приятно, что комп (незнакомый, маломощный, убогий) стал подвластен ему – еще больше, еще полнее. Севкина кровь придала сил? Или, наоборот, не кровь, но милосердие?
Пятнадцать минут – и пройдены все степени защиты.
Михаил увидел на мониторе свой дом.
Свой самый любимый, самый лучший в мире дом.
Общий план. Развеваются, ловят утренний бриз занавески. Рвется с крыши, словно хочет взлететь, флюгер. Разбиваются о скалы, ждут его волны.
Сад ухожен, цветы улыбаются солнцу.
Михаил идет дальше. Внутрь.
Начинает, конечно, со своей любимой гостиной – капитанской рубки. Он не был здесь почти месяц. С тех пор, как вплотную подобрался к врагам.
В комнате ничего не изменилось. В окна рвется морская синева. В их с Кнопкой любимом графине с блошиного рынка – лимонад с кусочками льда.
В кресле, где они когда-то так любили сидеть вдвоем с женой, – женщина. Арендаторша. Успела отлично загореть, глаза веселые, искрятся.