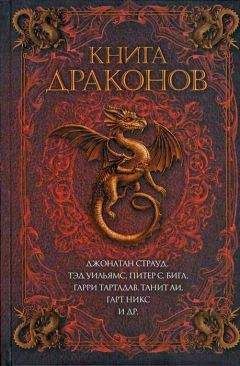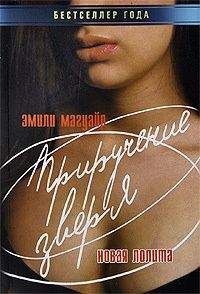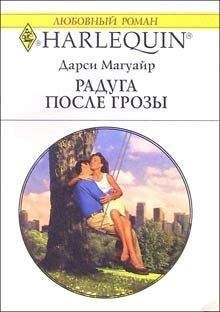Алла Дымовская - Мирянин
– Послушай, Леха, что я тебе скажу. Только, чур, ничего не передавай Наташе. Не стоит пугать ее прежде времени.
– А что случилось? – не понял я. Находясь в данный момент мысленно в будущем, я не очень представлял, что еще худшего может произойти в настоящем. Да и произошло ли?
– Пока ничего, – как бы успокоил меня Ливадин. – Но если бы ты вдруг узнал обо мне что-то сомнительное? Узнал бы из чужих уст и с чужих слов? Ты помог бы мне объяснить все, как должно, инспектору или прокурору или я не знаю, кому еще?
Все сомнительное я и так знал без него. И все, что надо, давно сообщил Фиделю, поэтому Тошкины намеки сильно запоздали. Но вслух я произнес:
– Конечно. Но может, ты объяснишь сначала мне, в чем именно дело?
– Не объясню. Но знай, я вызвал сюда Анохина, – несколько взволнованно сказал Ливадин.
Стало быть, Тошка почуял в воздухе нечто, раз решился плюнуть на прежние опасения и увидел необходимость разжиться надежным адвокатом. Что же, пусть будет и адвокат. Это как раз кстати, это как раз добавит последний штрих в картину.
– Анохин прилетит самое позднее послезавтра. Но я не затем тебя отозвал, – тихо произнес, несколько наклоняясь в мою сторону, Антон (надо думать, что не затем, или я совсем ничего не понимаю). – Леха, скажи, только не лукавь. По-твоему, что я за человек?
Вот-те, нате! И в юные-то годы, на заре нашей дружбы, никогда Тошка не задавал мне, да и никому вообще, подобных вопросов. Впрочем, раздумывать мне было некогда.
– Хороший человек, – твердо ответил я. Это вообще-то было правдой.
– Да я не об этом, хороший или плохой. Где тут вообще мера и может ли она быть? Кто лучше, кто хуже и кому об этом решать?..
– Хочешь спросить меня, как далеко мой друг Антон Ливадин способен зайти по пути греха? – Я старался, чтобы прозвучало, как в дешевом анекдоте, потому что Тошка именно это и имел в виду, а я не желал ему отвечать прямо. – Вряд ли дальше, чем я сам.
– И я так думаю. И хорошо, Леха, что ты тоже так думаешь. Но, как бы ни было, помни, что я тебе сказал. Если услышишь обо мне какую-нибудь пакость или если со мной что случится…
– А что с тобой может случиться? – У меня выбора не было, как только проявить интерес по поводу вещи, мне не интересной совершенно. Но сейчас мне представлялся удобный случай, чтобы исполнить другую свою миссию: – По-моему, ты не в духе и, по-моему, я знаю отчего. Ты злишься на Талдыкина из-за его вчерашней выходки. Но не кажется ли тебе, это несколько не наше дело, куда пошел Юрасик, и с чем он пошел, и зачем?
– Это тебе так кажется. А мне – совсем наоборот. Впрочем, не обижайся, Леха, мои отношения с Талдыкиным, действительно, не твое дело, – сурово отрезал Ливадин.
Вот и поговорили, называется. С Антоном всегда так. Мертвая зона, и посторонним вход запрещен. Однако сильно же его замучили подозрения, раз уж решился он подступить ко мне со своими бедами. Тошка умом обделен никогда не был и предчувствиями, видимо, тоже. Только запоздали они, твои предчувствия, друг мой Антон, мнительный человек, и не в футляре даже, а в железобетонном непрошибаемом коробе, что словно радиоактивный гроб. Как же легко тебя уловить и как же просто заставить идти в поводу. Именно потому, что свою клетку ты создал себе сам, и никто тебе не захочет протянуть руку, чтобы из нее выбраться. Ты не сможешь положиться даже на свою жену, на Наташу, потому что, как бы ты ни любил, как бы ни мучился, но и ее ты тоже не впускал к себе. Ты понятия не имеешь, дорогой, что такое – даже малая кроха настоящей свободы!
– Как это, я не имею понятия? – вдруг раздался рядом со мной голос Ливадина.
Я, кретин этакий, стало быть, от задумчивости произнес последнюю часть своих мыслей вслух. Ох, как нехорошо!
– Я имею в виду, ты слишком страдаешь от бед, которые еще даже не произошли. Мы в приятной поездке, пьем превосходную мадеру, – я поднял в его честь еще не до конца пустой стакан, – а ты переживаешь из-за адвоката, который не прилетел, ради несчастий, которые на твою голову еще не обрушились. Ты упорно не желаешь думать о хорошем, и мне не даешь.
– По-моему, ты не желаешь меня понимать, вот что я думаю, – угрюмо ответил Ливадин.
– А что же я могу понять, если ты спрятался за своими тайнами, как военная база за ядерным частоколом? Что я стану думать, коли произойдет нечто, из-за чего я услышу, что ты сделал что-то? Не кажется ли это слишком сложным для нормального человека? Я не способен воспринимать твои сентенции всерьез.
Я нисколько не опасался, что мое легкомысленное отношение к Тошкиным откровениям вызовет признание с его стороны. Этого просто не могло быть. Да и не нужны мне его откровения, ни в коем случае. Я понимал о себе, что поступаю сейчас жестоко, но признаюсь вам, я готов был это пережить. Тем более что собирался поступить с Тошкой не в пример более сурово.
Ливадин то ли с досады на меня, то ли на себя самого и на неудавшийся разговор поставил свой стакан, из которого не отпил ни капли, и бросил мне уже на ходу:
– Ладно, проехали. И вообще, пошли отсюда.
И минут через десять мы в полном составе покинули дегустационные залы. Домой ехали в состоянии некоторого возбуждения, теперь Талдыкин устроился рядом со мной, Тошка отказался сажать его вперед, чтобы не дышал алкогольными парами. Юрасик все трещал без умолку, как купит целую бочку наилучшей мадеры и отправит домой, в Москву, и неделю без отдыха станет поить всех близких и неблизких знакомых. Лез ко мне целоваться и обещал, что вторую такую же бочку пришлет мне, и вообще его дом отныне мой дом. Я саданул его под ребра, чтоб он не расходился слишком, и Талдыкин заткнул свой любвеобильный фонтан, начал вполголоса напевать сомнительной пристойности песню, а скоро и вовсе задремал. Зато теперь прорвало Наташу. Соберите несколько людей вокруг электрического стула, захлопните дверь и оставьте их в одиночестве. И вы скоро увидите, как они начнут говорить, не переставая, даже если сказать нечего, но лишь бы не было рядом тишины. Это был эффект того же порядка. О чем и куда понесло Наташу, не имело значения, какой-то пляжный магазин, и подарки подружкам, которые надо купить, и что это свинство – по всей дороге ни одного фаст-фуда, а ей срочно захотелось гамбургер. И все прочая лабуда в таком же роде. Я ей даже отвечал, что завтра непременно за компанию схожу с Наташей в тот дурацкий магазин, что гамбургер мы сейчас раздобудем в городе, только к чему ей эта дрянь, что подружкам лучше купить что-нибудь в зоне свободной торговли на обратном пути. В общем, меня тоже понесло. И я не стал осаживать себя. Зачем? Хочу – болтаю чушь, захочу – сам и заткнусь. Сейчас мне желалось говорить.
Мы едва успели войти в двери своего отеля, как немедленно разбежались в разные стороны. Как галлюцинации у алкоголика. Юрася убрел спать, я направился в бар, Наташа и Антон тоже разошлись – на пляж и в комнату отдыха с турецкой баней. Видно, за сегодняшний день мы все круто достали друг друга. Впрочем, пусть делают, что хотят. Юрасика я еще успею привести в должный вид, а прочие обстоятельства меня не волновали сильно.
День тем временем клонился к вечеру. Вернувшись в номер, я неторопливо стал приводить себя в парадный вид. Скажете, глупо? И зря. Нужный настрой человеку легче всего достичь, если заставить его внешность соответствовать его мыслям. Такова наша способность отождествлять собственное тело с покрывающей его одеждой. И худо, если в самый важный момент несогласие ваших ощущений вас подведет. Этого я и хотел избежать.
Первым делом я принял душ и тщательно вымыл голову. Потом побрился, хотя щеки мои еще не слишком требовали бритвы. Постриг ногти и облачился в чистое белье. Кстати, какая неучтивость, какая вопиющая невежливость с моей стороны! Сколько времени я морочу вам голову, сообщил все о моих друзьях, недругах, знакомых и даже о любимой женщине. А о себе не сказал ни полслова, в смысле моей наружности. И то, спросите себя сами, каков же из себя Алексей Львович Равенский, и не сможете ответить. А почему? А потому. Что я об этом не обмолвился ни в едином месте. Ну так вот. Может, вы и сами уже поняли, что я худ и подвижен, довольно ловок, не низок, но и чрезмерной высотой не отличаюсь, то есть не преодолел средний рост. Волосы мои не то чтобы черные, но близко к тому (в общем, я не прекрасный блондин), и хотя совершенно прямые, но столь жестки, что для придания им приличного вида требуется некоторое время. Глаза я, Алексей Львович Равенский, имею темно-серые, ресницы умеренные, черты лица тонкие, но излишне резкие, потому в писаных красавцах мне не ходить. Когда я смотрю на своих студенток с осуждением, то, многие так говорят, во мне видно нечто хищное и ястребиное. Но думаю, это сильное преувеличение. Однако это все обо мне.
Итак, я стал собираться к вечеру. Надел вторые свои брюки, единственные вечерние, традиционно черного цвета. (Раньше я бестрепетно выходил к ужину и в джинсах, но сегодня это было неуместно.) Над брюками красовалась любимая моя нежно-сиреневая рубашка с жестким воротничком, а под него я повязал галстук синий с косой серебристой полоской – лучший, каким располагал в своем гардеробе. Оставалось только влезть в черные, классического вида кожаные туфли, дорогие, хоть и весьма не новые, но из-за экономного употребления еще вполне шикарные. Я уже отзвонил Талдыкину, приказал ему собраться. Спросил, все ли готово. Юрасик отрапортовал мне, что давно и все, и осведомился, можно ли ему стаканчик для храбрости. Я позволил, от стаканчика Талдыкину вреда не выйдет, а только сплошная польза.