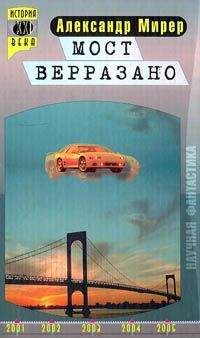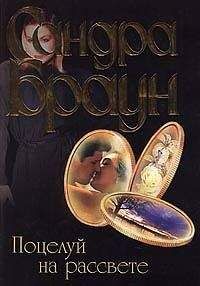Роберт Стоун - Перейти грань
— Извини, Оуэн.
— Ничего. Но какое-то время у меня был великолепный западный ветер. Я неделю не убирал спинакер. Я не мог упустить такую возможность.
— А не лучше ли тебе было находиться западнее островов?
— Все в порядке, Энни. Пока все идет хорошо.
— В самом деле? — Она старалась, чтобы голос звучал весело. Его предостережение задело ее за живое.
— Да, — заверил он ее. — Все просто великолепно.
— Я так рада. И так завидую тебе, Оуэн, что меня тянет на всякие проделки, вроде выпивки и вызывающих одеяний. Я буду хулиганить.
— Угомонись, — увещевал ее Браун. — Мы не соблюдаем установленный порядок в эфире и ведем себя нескромно.
— Плевать, — ответила она.
— Ты невозможная женщина. Я смотрю, тебе море по колено.
— Тебе правда нравится моя кожаная юбка?
Он промолчал.
— Извини, малыш, — попросила она. — Я забылась. Всего на момент.
Он ответил не сразу.
— Телефонные разговоры в море обладают странным свойством, тебе не кажется? Они неестественны.
— Да, — согласилась она. — Они странные, и от них одно расстройство.
— Вот именно. Так оно и есть.
— Я хочу сказать, — продолжила она, — что в некотором отношении они словно бы заставляют думать, что ты находишься рядом. Как будто бы мы вместе. И я сетую на то, что делаешь ты. А ты сетуешь на то, что делаю я. Все та же старая история.
— Я уже не раз собирался связаться с тобой.
— Правда? Господи, как бы мне хотелось оказаться рядом с тобой. На что это все похоже?
— У ночи тысяча глаз.
— Ты должен звонить мне всегда, как только тебе захочется этого, Оуэн.
— Я не знаю, как с этим быть.
— Не знаешь?
— Я не думаю, что это хорошая идея.
Вдруг ей пришло в голову, что он, возможно, обижен на нее из-за каких-то ее недоделок. Она попыталась найти подходящее объяснение тому, что он говорил ей.
— Почему?
— Я должен идти без связи, Энни. За исключением особых случаев. Это дорогое удовольствие. У нас могут быть неприятности с Федеральной службой связи.
— Ты высыпаешься? — спросила она. — Может быть, ты мало спишь?
Она вдруг поняла, что Оуэн прав насчет морской связи. Разговор был странным, не приносил удовлетворения и был открыт многим ушам. Слова делались плоскими, а мертвые паузы между ними наполняли подозрительность и ощущение вины. Любой, даже самый маленький необдуманный всплеск эмоций давал пищу для Бог знает каких размышлений. А телеграфная краткость могла хорошо прикрывать ложь или непонимание.
— Да, дорогое удовольствие, — проговорила она через минуту.
— Это деньги Гарри, — напомнил Браун. — Но ты права. Мы прибережем звонки для непредвиденных случаев или для выступления перед публикой. В следующий раз я свяжусь с тобой через неделю, у Уордов, в День благодарения.
— Ох, Оуэн, — она продолжала свое, — мне так хочется быть вместе с тобой.
— Это глупо, — заметил он. — Мы и так вместе, есть звонки или нет. Нравится нам это или нет.
К своему собственному удивлению, Энн начала плакать. "Если я каждый раз буду плакать, — подумала она, — то он перестанет звонить вообще. Но, может быть, это к лучшему".
— Ох, Оуэн, — вспомнила она, — вместе с документами я клала письмо к твоему дню рождения, но оно почему-то осталось дома.
— Отправь его почтовым буем, — засмеялся Браун. Это была старая морская шутка. На военных кораблях посреди ночи поднимали молодых матросов и заставляли их высматривать в море почтовые буи. Им говорили, что смотреть надо очень внимательно, потому что буи трудно различить. "Если пропустишь такой буй, — убеждали новобранца, — то никто не получит почты и вахте разгильдяев придется испытать на себе гнев всей команды".
— О Господи, — проговорила она, — ну почему мое письмо не с тобой? Как мне хочется написать тебе. Если бы на самом деле существовали почтовые буи. Ты уверен, что с тобой все в порядке?
— Лучше не бывает.
34
На экваторе были звездные ночи, зеркальная гладь океана и бесплодные бризы, не способные в своей хилости даже высушить пот или пошевелить волосы на голове. Каждое утро солнце вставало над одними и теми же далекими и призрачными облаками, которые никогда не меняли своей формы и местоположения, как будто там был привязан пароход, вхолостую гонявший свои машины. Чтобы заманить как можно больше ветра, Браун поднял балун-кливер, легкий парус увеличенной площади с косой передней шкаториной из кевлара. Он часами смотрел за норму на едва заметную струю, выходившую из-под киля. Вода была до умопомрачения синей, как бразильский аквамарин.
Однажды на укосину благополучно уселся буревестник, как будто только для того, чтобы продемонстрировать ему, насколько слабым был ветер. Когда Браун приблизился, птица лишь скосила на него свой маленький хитрый глаз, даже не попытавшись сдвинуться с места. Из любопытства он протянул к ней руку. Птица сделала четверть оборота на своем насесте и клюнула его. Затем вспорхнула и полетела на восток в дюйме от поверхности океана, словно убедившись, что здесь совершенно нечего делать.
Браун записал в бортовом журнале:
"Клевок и плевок цыпленка мамы Кэрри".
Не слишком-то ценное наблюдение.
Однажды вечером он включил приемник, надеясь найти какие-нибудь подходящие звуки, — шутовские краски заката настраивали на тропический разгул самбы, свистящих португальцев. Но наткнулся он все на ту же религиозную даму, вещавшую на прежней частоте.
— Многие из вас спрашивают в письмах, — скорбно произнесла она, — что надо понимать под Божьим заветом.
Браун почесался, открыл банку персиков и устроился слушать благочестивую англичанку, вопреки своему желанию.
— Под заветом Божьим, — учила она, — понимается то, что нам предназначено исполнить. Если хозяин дает вам работу, вы делаете ее и получаете за это деньги, значит, вы соблюдаете ваш завет перед хозяином. Но, если вы не исполняете работу, не ждите, что хозяин заплатит вам.
— У Господа есть работа для всех Его созданий, — вещала дама, — и каждый из нас должен исполнять свою. Ибо все мы либо соблюдаем завет, либо нарушаем его. А к кому относитесь вы — к тем, кто его соблюдает, или к тем, кто его нарушает? Задумайтесь над этим.
Я надеюсь, что очень и очень многие наши слушатели соблюдают завет. Как было бы прекрасно, если бы все наши слушатели относились к почитателям завета, то есть находились бы в послушании.
— Только не я, — сказал Браун.
— А находиться в непослушании, — объясняла проповедница, — значит, находиться в одиночестве и не быть в здравом уме. Ибо все здравое принадлежит Богу.
— Я не согласен, — возразил ей Браун.
— Все мы должны помнить, — наставляла дама, — что говорит нам глава четвертая Послания святого апостола Павла к Евреям: "Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные.
И нет твари, скрытой от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его: Ему дадим отчет".
Брауну показалась любопытной мысль о разделении души и духа. Разделение суставов и мозгов было знакомо ему как по обеденному столу, так и по последствиям авиационной поддержки войск на поле боя. Можно, наверное, представить его как "OSSO buco",[7] а можно также и как чью-то руну, невероятно вывернутую, с клокочущими кровью сосудами, облепленную мухами и с торчащей из нее белой с красными пятнами костью, осаждаемой жуками. "В четвертой главе Послания к Евреям, — подумал он, — наверняка имелась в виду война с ее кровавыми жертвами".
Звезды над головой были изумительными, а Южный Крест внушал благоговение. "Пусть Он, ному мы даем отчет, — подумал Браун, все еще находившийся под впечатлением проповеди, — никогда не разделит мой дух и мою душу. Это действительно похоже на безумие. Пусть Он, кому мы даем отчет, минует меня".
Когда, разбудив его, пришел факс с местонахождением каждого из участников гонки, Браун обнаружил, что не имеет желания знакомиться с бумагой. Ему словно бы расхотелось участвовать в гонке, но это вовсе не означало, что ему не хочется победить в ней.
Он так и не прочел факс, за исключением сообщения о погоде. Это было довольно глупо с его стороны, но он находился в своем собственном доме, в своем собственном королевстве, и к тому же предполагал, что довольно скоро все и так выяснится. "Что это, уверенность в себе или трусость? — вынужден был спросить себя он. — Независимость или злость?" Религиозная радиопередача настраивала его на самокопание. Ему казалось, что он, возможно, пребывает в непослушании.
На рассвете следующего дня те же облака так же вытянулись в цепочку вдоль горизонта на востоке. Неподвижное море вместе с небом из фиолетового превращалось в дымчато-голубое. Браун долго смотрел, как оно тут же смыкается над его слабым кильватерным следом. Когда пришла дневная жара, его непослушание переросло в бунт против необходимости терпеть еще один день удушающего штиля. Блестящая шелковая поверхность моря, ее обещавшая прохладу голубизна вывели его из оцепенения.