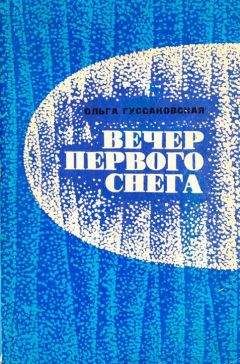Дин Кунц - Странный Томас
Считайте меня глуповатым. Другие считают.
Сторми Ллевеллин, женщина нетрадиционных взглядов, уверена, что смысл нашего пребывания в этом мире — закалить нас для следующей жизни. Она говорит, что наша честность, чистота, храбрость и решимость противостоять злу будут оценены в конце наших дней в этом мире и, если мы получим проходной балл, нас зачислят в армию душ, выполняющих какую-то великую миссию в последующем мире. А те, кто не наберет необходимых баллов, просто перестанут существовать.
Короче, эту жизнь Сторми воспринимает как курс молодого бойца. Последующую называет «службой».
Я искренне надеюсь, что она ошибается, потому что одно из положений ее космологии состоит в том, что многие ужасы, с которыми мы сталкиваемся здесь, есть прививка от кошмаров, ожидающих нас в следующем мире.
Сторми говорит, что надо безропотно принимать все, что выпадет на нашу долю в том мире, частично потому, что ничего такого в этом мире нам не увидеть, а главное, из-за награды за службу, которая будет ждать в третьей жизни.
Лично я предпочел бы получить свою награду на одну жизнь раньше, чем предполагает она.
Сторми вообще считает, что потворствовать своим желаниям нельзя. Если в понедельник она хочет «айсберг»,[11] скажем, малиновое мороженое с рутбиром,[12] она будет ждать до вторника, а то и до среды, прежде чем побаловать себя. Она настаивает, что от этого «айсберг» становится только вкуснее.
Мое мнение на этот счет следующее: если тебе так нравятся «айсберги» с рутбиром, купи себе один в понедельник, второй во вторник, а третий в среду.
Согласно Сторми, если я буду придерживаться подобной философии, то превращусь в одного из тех восьмисотфунтовых мужчин, которых, если они заболевают, приходится «выковыривать» из дома с помощью бригад строителей и подъемных кранов.
— Если ты хочешь страдать от унижения, когда тебя повезут в больницу на грузовике-платформе, не жди, что я буду сидеть на твоем раздутом пузе, как сверчок Джимини на загривке кита, и распевать «Когда ты загадываешь желание».
Вообще-то я уверен, что в диснеевском мультфильме «Пиноккио» сверчок Джимини никогда не сидел на загривке кита. Более того, я не убежден, что он и кит появлялись в одном кадре.
Но, если бы я поделился своими соображениями со Сторми, она бы одарила меня взглядом, который бы означал: «Ты совсем глупый или только злишься?» Таких взглядов я стараюсь избегать.
Пока я ждал, сидя на краешке кровати мальчика, даже мысли о Сторми не могли поднять мне настроение. Действительно, раз уж улыбающиеся черепашки Скуби-Ду на простынях не могли развеселить меня, наверное, ничего не могло.
Я продолжал думать о Харло, потерявшем мать в шесть лет, о том, что его жизнь могла бы стать ей памятником, о том, что он вместо этого опорочил ее память.
И, разумеется, я думал о Пенни. О ее жизни, оборвавшейся так рано, о потере, какой стала смерть девочки для ее близких, о боли, которая навеки изменила их жизни.
Пенни положила левую руку на мою правую и сжала, подбадривая.
По ощущениям ее рука не отличалась от руки живого ребенка, такая же доверчивая, такая же теплая. Я не понимал, как может она быть для меня совершенно реальной и при этом проходить сквозь стены, реальной для меня и невидимой для остальных.
Я немного поплакал. Иногда такое со мной случается. Я не стыжусь слез. В такие моменты слезы дают разрядку эмоциям, которые, не находя выхода, могли бы остаться внутри, ожесточить.
Когда по щекам потекли первые слезы, Пенни сжала мою правую руку двумя своими. Сквозь пелену слез я увидел, что она улыбнулась, подмигнула мне, как бы говоря: «Все нормально, Одд Томас. Поплачь, избавься от этого».
Мертвые очень тонко чувствуют состояние живых. Они идут по тропе впереди нас, знают наши страхи, наши недостатки, наши отчаянные надежды, понимают, как высоко мы ценим то, что не можем удержать. Думаю, они жалеют нас, безусловно, должны жалеть.
Когда мои слезы высохли, Пенни поднялась, вновь улыбнулась и одной рукой откинула волосы с моего лба. «Прощай, — означал этот жест. — Спасибо тебе, и прощай».
Она пересекла комнату, прошла сквозь стену в августовское утро, на один этаж выше лужайки перед домом… или в другую реальность, еще более слепящую глаза, чем лето в Пико Мундо.
А мгновением позже в дверях возник Уайатт Портер.
Наш начальник полиции — мужчина крупный, но внешность у него не угрожающая. На его лицо, с глазами, словно у бассета, и челюстями, будто у ищейки, земное притяжение действует, похоже, сильнее, чем на остальные части тела. В деле он быстрый и решительный, но, двигается ли он, стоит или сидит, создается ощущение, что на его мускулистые широкие плечи взвалена тяжелая ноша.
За все эти годы, когда низкие холмы, окружающие наш город, один за другим срывали, превращая в новые жилые кварталы, население увеличивалось, а злоба окружающего мира проникала в последние островки мира и спокойствия вроде Пико Мундо, чиф Портер повидал слишком уж много человеческой мерзости. Вот и ноша, которую он таскает на плечах, скорее всего груз воспоминаний, от которых он предпочел бы отделаться, но не может.
— Опять старая песня. — Он вошел в комнату.
— Опять, — согласился я.
— Разбитая дверь патио, поломанная мебель.
— Сам я ничего не разбивал. За исключением лампы.
— Но ты создал ситуацию, которая ко всему этому привела.
— Да, сэр.
— Почему ты не пришел ко мне, почему не дал мне шанс найти способ выйти на Харло?
В прошлом мы использовали и такой вариант.
— Я чувствовал, что его нужно останавливать немедленно. Возможно, потому, что он собирался сделать это снова в самом ближайшем будущем.
— Ты чувствовал.
— Да, сэр. Думаю, именно это Пенни хотела мне сообщить. Убеждала меня действовать.
— Пенни Каллисто.
— Да, сэр.
Чиф вздохнул. Сел на единственный в спальне Стиви стул. Детский, с мягким сиденьем, со спинкой в форме головы и торса динозавра Барни. Создавалось впечатление, будто Портер сидит на коленях у Барни.
— Сынок, ты определенно усложняешь мою жизнь.
— Они усложняют вашу жизнь, сэр, и мою гораздо больше, чем вашу. — Я говорил про мертвых.
— Согласен. Будь я на твоем месте, давно бы сошел с ума.
— Я думал об этом, — признал я.
— А теперь слушай, Одд. Я хочу обойтись без твоего появления в зале суда.
— Я бы тоже не хотел появляться там.
Лишь нескольким людям известно о моих странных секретах. Только Сторми Ллевеллин знает их все.
Мне не нужна известность, я хочу жить тихо и спокойно, разумеется, насколько позволяют призраки.
— Думаю, он напишет признание в присутствии своего адвоката, — продолжил чиф. — Тогда суда не будет. А если все-таки будет, мы скажем, что он раскрыл бумажник, чтобы отдать тебе проигрыш, скажем, вы заключили пари на исход бейсбольного матча, и из него выпали полароидные фотографии Пенни.
— Я так и скажу, — заверил я Портера.
— И я поговорю с Ортоном Барксом. Он сведет к минимуму твое участие, когда будет об этом писать.
Ортон Баркс издавал газету «Маравилья каунти таймс». Двадцать лет тому назад в лесах Орегона, в турпоходе, он пообедал с Большой Ногой,[13] если можно считать обедом концентраты и баночные сосиски.
По правде говоря, я не могу утверждать, что Ортон обедал с Большой Ногой. Но он так говорит. Учитывая мой жизненный опыт, я не вправе ставить под сомнения слова Ортона или кого-то еще, кто может рассказать о своей встрече с кем угодно, от инопланетян до гномов.
— Ты в порядке? — спросил чиф Портер.
— Да, конечно. Но я не люблю опаздывать на работу. В «Гриле» утро — самое бойкое время.
— Ты позвонил?
— Да. — Я показал ему мой маленький мобильник, который висел на поясе, когда я оказался в бассейне. — По-прежнему работает.
— Я скорее всего заеду позже, съем гору жареной картошки и яичницу.
— «Завтрак — круглый день», — ответил я слоганом, который украшал стену «Пико Мундо гриль» с 1946 года.
Чиф Портер чуть поерзал задом, отчего Барни жалобно застонал.
— Сынок, ты до конца жизни собираешься стоять за прилавком блюд быстрого приготовления?
— Нет, сэр. Я уже думал о том, чтобы переключиться на покрышки.
— Покрышки?
— Может, сначала продавать их, потом ставить на диски. В «Мире покрышек» всегда есть вакантные места.
— Почему покрышки?
Я пожал плечами.
— Людям они нужны. И я об этом ничего не знаю, будет чему поучиться. Я хочу посмотреть, какова она, жизнь покрышек.
Мы посидели с полминуты, оба молчали. Первым заговорил он.
— И это единственное, что ты видишь на горизонте? Я про покрышки.