Полина Дашкова - Золотой песок
– У меня есть, – бросила Ника, взглянув мельком на кассету.
– Да? Я не знала. Ну ладно, пригодится. Себе возьму. Любимая Никиткина песня «Yesterday». Как же без нее?
– У нас с тобой что, праздник? – тихо спросила Ника.
– Вроде того, – кивнула Зинуля, – у нас поминальный завтрак. Ну и еще небольшой праздник. Сегодня я угощаю. Все-таки восемь лет не виделись. Вообще-то я тебе ужасно рада, Елагина, хотя ты бесчувственная, равнодушная ледышка. Вот и бедной женщине испортила весь кайф.
– Чем же? Ты так и не сказала.
– Был бы рядом с тобой мужик, красивый, молодой, а не я, старая оборванка, вот тогда твоя вежливая соседка поимела бы истинный кайф. Представляешь, ка-ак она потом всем бы об этом рассказывала! – Зинуля извлекла со дна пакета пачку пельменей, погремела ими, понюхала, водрузила в самый центр стола и отошла на шаг, любуясь натюрмортом.
– Ну, с чего начнем? – она распечатала кассету и поставила. – Ты опять застыла, губернаторша? Достань хотя бы тарелки. Слушай, раз уж у нас с тобой поминальный завтрак, может, ты расскажешь наконец, с чего это вдруг, с какого бодуна, ты, такая тонкая, такая нежная, вышла замуж за это животное, за Гришаню?
– А с какого бодуна ты называешь моего мужа животным? – вскинула брови Ника. – Ну да, не гений, но вполне нормальный человек. Не всем же быть гениями.
– В Никите была искра Божья, а в Гришке твоем только кремни гремят. Вот он и дергается всю жизнь, пытается добыть огонь трением, как первобытный дикарь. А искорка никак не высекается, камни-то мертвые, холодные.
– Красиво излагаешь, Зинуля, прямо как по писаному. Сама придумала или цитируешь кого-то? – усмехнулась Ника.
– Сама. У меня картинка такая есть. Человек, набитый камнями. Что-то в стиле старичка Дали. Слушай, может, ты сейчас, наконец, по прошествии долгих трудных лет разлуки, расскажешь мне, что у вас с Никитой случилось? Ведь жить друга без друга не могли.
– Да ничего, собственно, не случилось, – болезненно поморщилась Ника, – так вышло, и все.
– Не правда, – Зинуля покачала головой, – все началось с того, что пропали черновики твоего отца. А потом ты обнаружила, что в Никитиных стихах сквозят измененные строчки из черновиков Сергея Елагина. Из неопубликованного.
– Откуда ты знаешь? – Ника вздрогнула.
– А потом, – продолжала Зинуля, распечатывая коробку с французским сыром, – когда ты показала Никите машинописные странички, на которых его новые стихи были пересыпаны ворованными строчками из черновиков твоего отца, он стал слишком сильно нервничать, открывал ящики своего стола, вываливал к твоим ногам содержимое, и там оказалась зеленая общая тетрадь. Та самая, которая пропала из твоей квартиры и которую ты долго не могла найти.
– Я прошу тебя, перестань, – Ника тяжело опустилась на табуретку, – прекрати, мне больно.
Зинуля пересказывала сейчас, подробно и беспощадно, историю их главной, решающей ссоры, о которой Ника категорически не хотела вспоминать.
– «Ты мог бы спрятать получше!» – заявила ты Никите и ушла, хлопнув дверью, – продолжала Зинуля, словно не слыша Нику и пытаясь аккуратно нарезать мягкий сыр. – Может, мы его ложкой есть будем? Не режется, зараза, только по ножу размазывается. Так вот, на самом деле этих стихов Никита не писал. То есть писал, но не эти. Черновики твоего отца по строчкам не раздергивал, и сам удивился несказанно, когда зеленая тетрадочка оказалась на дне его ящика. Знаешь, что произошло на самом деле? Неужели до сих пор не знаешь?
– Это было очень давно, – еле слышно проговорила Ника, – за давностью лет уже не важно, что произошло на самом деле.
– Но ведь тебе интересно? Только не говори, будто тебе все равно. Молчишь? Ну, слушай. Два дурака занялись составлением поэтического коктейля. Это выглядело как игра. Ты спросишь, откуда я знаю? Все очень просто. Этими двумя дураками были мы с Гришкой. То есть дурой была я, как выяснилось. А про твоего драгоценного супруга этого не скажешь. Он действовал вполне разумно и сознательно. Сначала мы поспорили. Я уверяла, что настоящего поэта можно запросто узнать по нескольким строчкам, а он говорил: ерунда, никто не знает, что такое настоящая поэзия. Любой грамотный человек может, поднатужившись, придумать десяток неплохих строчек. Только я не знала, что строчки, которые, поднатужившись, выдавал Гришаня, принадлежат твоему отцу. Он ведь наизусть шпарил, паршивец. Я думала, это он сам сочинил. А я ему отвечала Никитиными стихами, которые тоже знаю наизусть. Сама-то ведь никогда этим делом не баловалась, а потому уважала чужое поэтическое творчество искренне, от всей души. Особенно творчество Никиты Ракитина. Ну и память у меня отличная. А вот Гришаня твой стишками-то баловался в юные годы, еще как. Он ведь и в Литинститут пытался поступить, в том же году, что Никита. Только не приняли. Творческий конкурс не прошел. Мог, конечно, и по блату, была у него такая возможность. Однако счел, что это ниже его достоинства. «Как много нам открытий чудных готовит просвещенья век», – пропела Зинуля и отправила в рот липкий ломтик камамбера.
– «Дух», – машинально поправила Ника, – «готовит просвещенья дух». Скажи, пожалуйста, зачем ты мне все это сейчас рассказала?
– А так, – пожала плечами Зинуля, – у нас ведь торжественный поминальный завтрак. Кого мы с тобой поминаем? Никиту Ракитина. А история вашей грубой ссоры всплыла совсем недавно, когда мы с Никиткой случайно встретились в моей пельменной. Я ведь так и не знала, какая между вами кошка пробежала. Вы оба не желали об этом говорить. А я девушка любопытная до колик в животе. Он, кстати, так и не простил тебя за то, что ты сразу поверила, будто он может быть вором. Раз поверила, значит, не любила никогда. Он, если ты помнишь, даже не счел нужным оправдываться. Только одно непонятно, кто же перепечатал потом этот забавный поэтический компот, поставил Никитину фамилию сверху, на каждой страничке, подсунул рукопись тебе, а ему, Никите, аккуратненько подложил в ящик письменного стола черновики твоего отца?
– Ты хочешь сказать, это мог сделать только Гриша? – медленно произнесла Ника.
– Я ничего такого не говорила, – усмехнулась Зинуля, – в принципе, кроме нас двоих, никто не мог. Я не делала, это точно. А что касается Гришки… ты ведь своего мужа лучше знаешь. Или нет? А в общем, столько лет прошло, можно и забыть. Он ведь любил тебя жутко. Я Гришку имею в виду. И за мной стал прихлестывать исключительно ради тебя, знаешь, как в том анекдоте, чтобы в разговор встрять. Мне, между прочим, было это немножко обидно. Ну так, чисто по-женски.
– Ты не могла бы вспомнить еще какие-нибудь подробности из вашего разговора с Никитой? – попросила Ника вполне спокойно.
– Сложно, – призналась Зинуля со вздохом, – разговор у нас был долгий и эмоциональный. Как говорится, сумбур вместо музыки.
– Ты сказала, у него был творческий кризис, – медленно произнесла Ника, – он поселился у тебя, чтобы поработать в другой обстановке?
– Ну да, именно так.
– Компьютер был у него?
– Разумеется. Новенький ноутбук.
– А потом, после пожара, что-нибудь осталось от этого ноутбука?
– Ой, перестань, – махнула рукой Зинуля, – что там могло остаться, в таком огне?
– Кое-что. Пластмассовый корпус должен был, конечно, расплавиться, но совсем исчезнуть он не мог.
– Не было ничего, – прошептала Зинуля удивленно, – ничего похожего на остатки ноутбука не было.
* * *Начальник охраны губернатора Синедольского края Игорь Симкин вот уже минут десять сидел в кресле, курил и терпеливо ждал, когда шеф соизволит поднять голову от бумаг. Эта манера – заставлять ждать без всякой необходимости – была одним из первых признаков, по которым Симкин определял начало падения с административных высот очередного охраняемого лица.
Предыдущий шеф Игоря, глава крупного металлургического концерна, тоже сперва держал долгие паузы, потом заставлял подчиненных по десять раз переписывать документы ( «Что ты мне тут наплел? Разве так говорят по-русски?»). Позже у него появилась манера отменять собственные распоряжения, дождавшись, когда человек почти все сделает, потратит кучу сил и времени, или на важные вопросы не отвечать ни да, ни нет, тянуть резину, наслаждаясь растерянностью и внутренним напряжением подчиненного. В итоге не осталось в его окружении никого, кто готов был бы поддержать в трудную минуту. Все только и ждали, когда эту сволочь либо скинут, либо шлепнут. И дождались. Скинули дурака надутого, да с таким треском, что мало не показалось.
«Ну все, поползла дурь в башку, – думал Симкин наблюдая, как шеф с важным видом читает какую-то позавчерашнюю ерунду, – ловишь свой глупый кайф оттого, что я сижу и жду тебя, такого важного, жду покорно и терпеливо. Думаешь, если ты мне платишь значит, купил совсем, с потрохами, и я, твоя покорная „шестерка“, обязан в одиннадцать часов вечера, после целого рабочего дня, тихо, терпеливо ждать, когда же ты соизволишь обратить на меня внимание? Нет, ты, наверное, вообще ни о чем не думаешь. Начальственная дурь у тебя гудит в башке, как штормовой ветер. Не понимаешь, что скоро мое раздражение перерастет в тихую ненависть, и никакими деньгами ты это здоровое чувство не победишь. Ну ладно, ничего, сейчас ты у меня встрепенешься, глазки загорятся, ручки затрясутся».

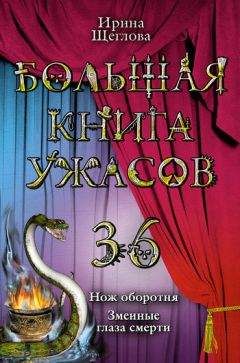
![Харлан Эллисон - Время глаза [Время ока]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)
