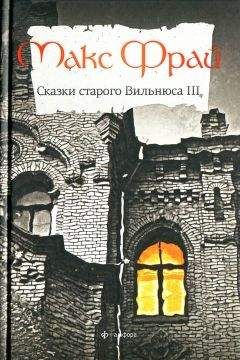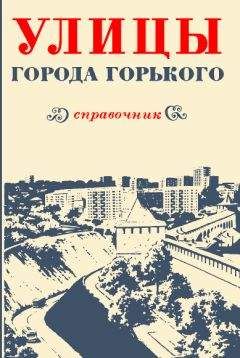Энтони О'Нил - Фонарщик
Но Зверь не стал набрасываться на них. Кажется, даже не заметив их, он пронесся мимо, окутанный туманом, и устремился в логово, оставляя за собой гигантские волны тлеющих углей, раскаленного воздуха и зловоние скотобойни. Макнайт и Канэван так толком и не рассмотрели его. Не имея ни единого шанса сделать хотя бы один вдох в оставленном Зверем вакууме, они видели, как он, выставив мощный горб спины, свернул за фонтаном Бау-Фут направо и без колебании направился к Каутейт.
Они постояли ровно столько, чтобы смущенно взглянуть друг на друга — а Макнайт, тот даже отчаянно, не поднимая трости с земли, — затем стряхнули нелепую растерянность и рванули вдогонку.
Кое-кому из прохожих удалось отскочить, тех, кто не успел, накрыло, и вдоль пути Зверя слышалось тяжелое дыхание людей с застывшими от ужаса лицами. У входа в трущобы ирландец остановился, и когда профессор догнал его, они увидели, как огромный дракон катится вниз по склону, рассекая тьму и спертый воздух, расшвыривая скорняков и продавцов спичек, сминая огонь костров в комок визга и остановившегося дыхания. Пробравшись сквозь ночь, туман, самые границы вероятного, он на какое-то время затаился под пролетом моста Георга IV, а затем шмыгнул в улочку, как какое-то невероятных размеров насекомое.
Канэван что было сил бросился за ним по засалившейся мостовой и на перекрестке увидел, как Зверь с хрустом ползет вниз по улочке. Макнайт, отрывисто дыша, догнал ирландца, и они восхищенно наблюдали жуткое зрелище — примерно в двадцати ярдах от них тварь, скрючившись, ввинчивалась в темное отверстие в стене.
— Убийца! — невольно вскрикнул Макнайт, когда они забежали на улицу. — Гонитель!
Они были в пяти ярдах, когда Зверь поднял свою величественную голову и посмотрел на них; его морда светилась каким-то неестественным светом.
Для Канэвана это было узнавание. Для Макнайта — то, что он искал всю свою жизнь. Для обоих он стал началом эры страха.
Зверь громыхнул, выпустил пар и как мокрица протиснулся в щель, послышался хруст костей и шелест ткани. Затем последовал выброс серы и гнили, далекий звук лязгающих цепей, мучительные стоны, и пахнуло жаром, как из сталелитейной печи. С грохотом опустились ворота, дракон соскользнул вниз и с рыком неземной боли надежно укрылся в своем пристанище.
Канэван остановился перед искореженным проемом ворот — из-за вони едва можно было дышать, лицо горело. В тусклом свете едва угадывалась опускная решетка.
— Куда они ведут? — спросил он Макнайта, осторожно ступив во мрак, и потряс решетку.
Но ворота были неприступными, как и все в Эдинбургском замке. Зверь был крепко, верно упрятан в своем подземном мире.
Они вернулись и, тяжело дыша, вывалились на Каугейт, в мерзкий мир подонков, вдруг давший им ощущение защищенности, о которой можно только мечтать. Безмолвно постояли посреди клубящегося дыма и тумана, между разбросанными тлеющими углями и лужами рыбьего жира, пытаясь избавиться, хотя бы на мгновение, от смотревшей на них морды, но остаточное изображение было таким ярким, что его вряд ли бы стерла и столетняя буря.
Глава 19
«Это была миссия, и я чувствовал себя всецело правым», но на самом деле он чувствовал себя глубоко, невыразимо разбитым, пот холодил лицо, бешено, как лунатик в клетке, билось сердце. Сбоку шли Прингл и констебль в штатском, они втроем направлялись на Кэндлмейкер-рау, и Гроувс все время покашливал, пытаясь найти в себе хладнокровие, мужественность, негодование — что угодно, лишь бы это вытеснило страх.
— Знаете, что говаривал добрый волынщик Макнэб? — сказал он, чтобы обмануть нервы.
— Что же он говорил? — спросил Прингл.
— Что у загнанной в угол собаки есть одна секунда, чтобы решить, станет ли она тигром или зайцем. Одна секунда. И знаете, как поступит самый великодушный охотник? В эту секунду?
— И как же, сэр?
— Он поможет собаке принять решение — любое. Потому что ужасно не само решение, а момент его принятия.
— Да, — не сразу сказал Прингл.
— Вы понимаете меня? — не отставал Гроувс. — Нельзя, чтобы она опомнилась. Мы должны вовсе не дать ей этой секунды. Поэтому я и взял вас.
— Да.
Они подошли к ее дому в темноте, под бегущими облаками. Гроувс сначала жестом указал в сторону прачечной, но она оказалась пуста. Они вернулись и целеустремленно начали подниматься по путаным маршам лестницы. С каждым скрипом ступенек Гроувс чувствовал, как у него сжимаются внутренности, а руки беспомощно дрожат. Он волновался так, что если бы был один, то мог и передумать. Мог отступить. Потенциал сил, с которыми он вступил в борьбу, был огромен. И на самом деле он взял с собой Прингла и констебля, чтобы заставить себя действовать, чтобы сделать отступление слишком унизительным, унизительным до невозможности решиться на него. Он собирался сойтись лицом к лицу с гражданкой Тодд и вытрясти из нее всю правду. Или по крайней мере запугать, чтобы она выдала себя и попалась в одну из расставляемых им ловушек. Но все это так тонко.
— Дубинки наготове? — спросил он, когда они подошли к ее жутковато выщербленной двери. — Прекрасно. Тогда давайте не будем тратить время попусту. Давайте исполним свой долг. Давайте не будем колебаться и не будем отступать. Давайте выполнять свой долг во имя Господа.
Он погладил свои серебряные пуговицы, пытаясь настроиться на решительную волну. Но у него весь день кружилась голова.
Утром опять хлынули многочисленные сообщения о жуткой твари, появившейся на мрачных улицах. Было одно особенно странное свидетельство: некая вдова из Марчмонта — семьдесят, но железная лицом и сложением — утверждала, что зверь бежал за ней по улицам и чуть не схватил у дверей. Лишившись выдранного им клока волос, она вбежала в дом, заперла двери и спряталась в спальне, а тварь — она утверждала, что это был сам Сатана, — почти целый час трясла прутья изгороди, после чего исчезла. Утром она примчалась в главное управление с требованием, чтобы ее поместили в камеру в целях безопасности, и несколько успокоилась только после того, как Гроувс заверил ее, что полицейские проводят ее до дома и будут охранять день и ночь. Звали ее Гетти Лесселс, и когда-то она была воспитательницей пансиона для неимущих девиц в Фаунтенбридже.
— Он пришел за мной! — истерично и не очень разборчиво кричала она.
— Кто пришел? — спросил Гроувс. — Дьявол?
— Да, дьявол — она послала его за мной!
— Кто?
— Да ребенок же!
— Вы говорите об Эвелине Тодд? Девочке из вашего приюта?
— Да — ребенок! Мы думали, что она умерла! Но она вернулась за мной!
С размазанной пудрой, влажная от пота, она забилась в угол кабинета главного констебля и все время смотрела в окно, словно боялась, что за ней могут прийти в любой момент.
— Вы говорите чепуху, женщина, — сказал Гроувс с ужасным чувством, что это вовсе не чепуха. — Кто за вами гонится? Эвелина Тодд или дьявол?
— Оба! Это одно и то же!
— И почему кто-то из них должен за вами прийти?
Вдова зарыдала:
— Я непосредственно в этом не участвовала!
— Не участвовали в чем? — спросил Гроувс с участившимся пульсом. — Говорите, сударыня, ради вашего же собственного блага!
Она прикрыла рот рукой.
— Вы хотите, чтобы вас вздернули на виселице? Или нет?
Паника уступила место обиде.
— Спросите у него, если хотите знать!
— У кого? У дьявола?
— У Линдсея! Это он все затеял!
— Кто?
— Авраам Линдсей, владелец приюта.
— Авраам Линдсей? — Гроувс знал это имя. — Он еще жив?
— Да! Это все он. Я не участвовала в этом непосредственно, говорю же вам. Не участвовала непосредственно!
Авраам Линдсей, основатель пансиона для неимущих девиц в Фаунтенбридже, был хорошо известен полиции, особенно участку Вест-порт, где когда-то служил Гроувс. Этот суровый, высоконравственный мужчина в 1860-е годы несколько лет был предметом нелепых скандальных слухов, связанных в основном с кончиной во время родов его второй жены. Вероника Линдсей была известной красавицей и вольнодумкой, лет на тридцать моложе мужа, и неравный союз ей более-менее насильно навязал крайне консервативный отец, в целях «исправления наклонностей». Но неприятные разговоры омрачали и ее брак, достигнув кульминации в 1865 году, когда она прежде срока родила первенца с кожей цвета цейлонского чая. В связи с тем, что роды оказались преждевременными и совпали с Рождеством, Линдсей был вынужден сам принимать их, а на следующий день с пустыми глазами и бесстрастным голосом сообщил полиции об ужасной трагедии: кончине матери и ребенка во время родов. При подобных обстоятельствах это было вполне вероятно, и ни одно из возникших впоследствии подозрений нельзя было принимать всерьез. Слуга-индус из соседнего имения вообще отрицал факт знакомства с Вероникой Линдсей; ее отец, член Коллегии адвокатов, не имел ни малейшего интереса к расследованию дела, а сам Авраам Линдсей считался человеком безупречной репутации. И жена, и ребенок упокоились на Драмгейтском кладбище под надгробием с надписью, свидетельствовавшей либо о неутолимой печали, либо о бессовестной двуличности («Бесценная священная земля, ты долго будешь мне дорога…»).