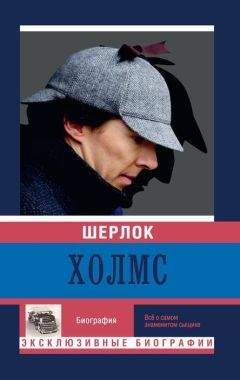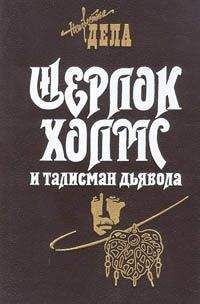С. Тремейн - Холодные близнецы
– Мама, я здесь, но меня нет. Меня больше нет.
Мне больно, но я тоже улыбаюсь ей в ответ:
– Тебе не нравится дождь?
Она мрачнеет. Не понимает меня. Я беру ее нежную покрытую шрамами руку и целую ее. Треплю по розовой щечке.
– Но, милая, ты смотрела на дождь.
– А? Нет, мама, – говорит она безучастно. – Вообще-то не на дождь.
Она указывает на дверь, ее тонкая кисть выглядит элегантно и как-то по-взрослому в черном платье с длинными рукавами:
– Я в машине разговаривала с Кирсти, она была в зеркале, в которое папа смотрит, когда сидит за рулем.
– Но…
– А сейчас она ушла, и я вспомнила, как священник говорил, что она в раю, и я хотела спросить, где этот рай.
– Лидия…
– Но никто мне не сказал, и я решила поискать Кирсти. Мам, я не думаю, что она в раю, – она рядом с нами. Помнишь, как мы играли в прятки в Лондоне, ма?
Конечно. От воспоминаний мне делается совсем горько. Но я должна сохранить рассудок. Ради Лидии.
– Да, дорогая.
– И я подумала, что она опять играет в прятки. Я искала ее везде, где мы прятались, когда играли дома. Но Кирсти залезла за ту штуку вон там – за гар-де-роб.
– Что?
– Честно, мам. Я чувствовала ее руку.
Я медленно переспрашиваю:
– Ты чувствовала руку сестры?
– Да, мама, и я испугалась. Раньше такого со мной не было. И если она будет меня трогать, то я не хочу ее искать, потому что мне очень страшно.
Очень страшно теперь мне.
Меня терзает одиночество дочери.
– Лидия…
Как мне ее успокоить? У меня нет никаких мыслей. А Лидия, похоже, регрессирует. В минуты затруднений ее речь становится похожа на лепет пятилетней малышки.
Мне нужен детский психолог или психиатр. На следующей неделе у меня назначена встреча с Келлавеем, но дотяну ли я до нее?
– Мамочка, а ты когда-нибудь разговаривала с Кирсти?
– Что?
– Ты ее когда-нибудь видела или слышала? Она хочет с тобой поговорить, я знаю.
Как мне отвлечь дочь? Вероятно, надо задавать ей вопросы. Может, спросить у нее о чем-нибудь серьезном? В конце концов, сделать ситуацию еще хуже, чем она есть, было бы трудно.
– Давай-ка прогуляемся, – заявляю я. – На пирсе наверняка есть выдры.
Разумеется, на пирсе нет выдр, но я хочу поговорить с ней наедине. Лидия послушно выходит вслед за мной на улицу.
Дождик уже не моросит. Я вдыхаю влажный воздух.
Мы с дочерью молча добираемся до пирса. Потом мы садимся, опускаемся на колени прямо на холодный бетон и разглядываем валуны, гальку и спутанные между собой травы, качающиеся на волнах.
Я пыталась выучить названия всех этих трав: трехреберник продырявленный, млечник приморский, синеголовник приморский – растения прибрежной зоны. Точно так же я пыталась запомнить названия маленьких рыбок, которые плещутся в приливных лужах на Торране. Морская собачка, маслюк, яркая красно-оранжевая пятнистая колюшка…
Но я что-то упустила из виду. Что-то жизненно важное. И я до сих пор не разобралась, как следует, с языком.
– Выдр нет, – произносит Лидия. – Ни одной. А какие они, мама?
– Они часто прячутся, милая, – отвечаю я и набираюсь храбрости: – Лидия, а Кирсти злилась на папу в тот день… в тот день, когда она упала?
Дочь смотрит на меня пустым и безразличным взглядом:
– Да. Злилась.
Я напрягаюсь.
– Почему?
– Папа ее все время целовал.
Над заливом исступленно кричит серебристая чайка.
– Целовал?
– Да, целовал и обнимал, – Лидия, не мигая, честно глядит мне прямо в глаза. – Он ее целовал и обнимал, а она сказала мне, что она испугалась. Он часто так делал, все время делал.
Она замолкает и отворачивается от меня. Я кусаю губы.
Действительно, Энгус целовал девочек, особенно Кирсти. Год за годом. Он был обнимальщиком и целовальщиком. Кинестетиком.
Я вспоминаю Лидию, устроившуюся у него на коленях – после того случая с разбитым окном. И то ощущение неловкости, внезапную мысль, что она уже большая, чтобы сидеть на коленях у папаши. Но если это нравится ему?
Чайка улетает прочь. Я чувствую себя раненой птицей.
Чайкой, что камнем падает вниз.
– Мам, ей было страшно. Папа напугал ее.
Значит, все лежало на поверхности?
– Лидия, это очень важно. Ты должна сказать мне правду, – я проглатываю свою ярость, горе и тревогу. – Ты имеешь в виду, что папа целовал и обнимал Кирсти не так, как обычно? И она расстроилась и испугалась?
Лидия молчит.
– Да, мам, – наконец кивает она.
– Точно?
– Да. Но она все равно любит папу. И я люблю папочку. Может, пойдем поищем выдр на другом пляже?
Мне хочется заорать, но я держусь. Истерика мне не поможет. Мне нужно взять себя в руки и встретиться с Келлавеем. Обязательно. ПРЯМО СЕЙЧАС.
Кого волнует, что это поминки по Кирсти?
Из паба выходит мой отец. Грустный и добрый со стаканом в руке.
Я вцепляюсь в него.
– Поиграй с Лидией! – шиплю я злобно. – Присмотри за ней, пожалуйста.
Он кивает с нечеткой пьяной полуулыбкой, но повинуется и наклоняется потрепать внучку за подбородок.
Я достаю из кармана мобильник и бегу в дальний конец пирса, где меня никто не услышит.
Сперва я звоню в офис Келлавея. Нет ответа. Я пробую его домашний номер.
Ничего.
Что делать? Некоторое время я смотрю на грязевые поля, на поднимающийся прилив и на Торран. Освещение изменилось, и наш остров теперь окрасился в серый цвет, а Нойдарт играет зеленью и темным пурпуром. Березовые леса и холмы.
Келлавей. Я помню его слова. Он говорил о чем-то существенном, но, похоже, засомневался.
Сэмуэлс. Детский психиатр Роберт Сэмуэлс.
Мне необходим Интернет. Но где его взять?
Мне нужна машина. Я прохожу через парковку возле паба и забираюсь в наш автомобиль. Ключи в замке. Энгус часто их оставляет. Машины на острове не запирает никто. Народ гордится тем, что у них нет преступности.
Я вытаскиваю ключи и взвешиваю их на ладони. Как драгоценные иностранные монеты. Сэмуэлс, Сэмуэлс, Сэмуэлс. Я снова вставляю ключи в замок, включаю зажигание, жму на педаль газа и уезжаю с похорон дочери. Всего-то милю в горку надо преодолеть.
На холме, где хорошо ловится сигнал, есть и доступ в Интернет.
Я паркуюсь на гребне холма. Как местная.
Я достаю мобильник.
Вбиваю скудные данные в Гугл.
Роберт Сэмуэлс. Детский психиатр.
Тотчас же высвечивается страница из Википедии. Он работает в университете Джонса Хопкинса. Известен в научной среде.
Пробегаю глазами его биографию. Шепот ветра в елях и соснах похож на хор тихих осуждающих голосов.
Сэмуэлс – занятой человек. У него высокий рейтинг цитируемости. Я читаю список: «Психология переживания горя в детском возрасте», «Формирование жестикуляции у глухих детей», «Опасности предпубертатного развития мальчиков», «Близнецы: признаки развратных действий со стороны отцов».
Я замираю.
«Признаки развратных действий со стороны отцов».
Я нажимаю на ссылку, но мне выдают лишь краткое изложение – в одну строчку. «Повышенные степени развратных действий со стороны отцов по отношению к однояйцевым близнецам: метаанализ и версии объяснения».
Я близко. Я почти у цели. Но нужно прочесть статью целиком.
Глубоко и ровно дыша, я щелкаю по ссылкам два или три раза, пока не нахожу копию статьи. Сайт требует деньги. Я вынимаю из кошелька карточку и, введя номер, делаю платеж.
Следующие двадцать минут я читаю, сидя в машине. Солнце опускается над лысыми горами выше Токавейга.
Это короткая, но информативная статья. Сэмуэлс, похоже, сталкивался со многими проявлениями развратных действий отцов по отношению к близнецам. Особенно к девочкам. Особенно к отцовским любимицам.
Телефон дрожит в моей руке.
Признаки наличия развратных действий включают в себя усиление соперничества между близнецами, «нанесение себе повреждений жертвой таких действий и/или ее сестрой-близнецом», необъяснимые припадки вины и стыда, «проявления счастья, выглядящие недостоверно». Помимо прочего, «не-жертва может проявлять такое же психологическое страдание и ментальный дисбаланс, как и близнец-жертва, если между ними существует исключительная близость и они посвящают друг друга в свои секреты, как это делают многие близнецы».
Меня окончательно добивает то, что «нанесение себе телесных повреждений или даже суицид – нередкое явление среди близнецов, ставших жертвой развратных действий со стороны родителей».
Мир выглядит совершенно обычным. Я читаю статью, припарковавшись на холме, открытом всем гебридским ветрам. Получаю знания о том, что мой муж приставал к Кирсти. Или хотя бы пытался.
Почему я была слепа? Не замечала подозрительных объятий между папочкой и Кирсти, между папочкой и его маленькой Неваляшкой – что за дурацкое прозвище, его противно-слащавые проявления нежности. А как насчет того, что он входил по ночам в спальню дочери – когда Лидия не спала и читала вместе со мной – и оставался наедине с Кирсти?