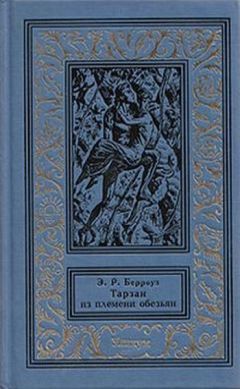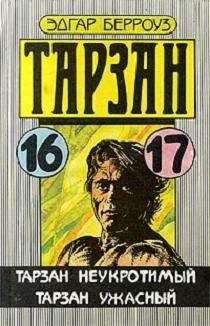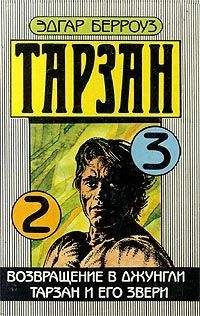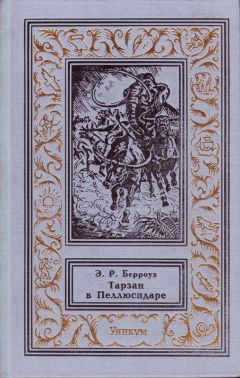Доминик Менар - Небо лошадей
Когда он склонился надо мной, я уже спала, и во сне у него было лицо моего отца в день свадьбы, серьезное и словно уже тревожимое будущими страданиями, и он прошептал что-то про зеркало, про двойника в зеркале, но я не поняла что. Потом сон унес меня дальше, и я видела только пруд, в который мы смотрелись раньше, лежа на берегу и строя одинаковые рожицы и улыбки, пока окуни и карпы, всплывавшие из глубины, не начинали ловить наше отражение.
Я уже не помню, почему однажды мы решили наконец пойти посмотреть на лошадей. Может быть, это было все, что осталось от наших прежних мечтаний, от историй, которые мы делили теперь. Мне кажется, что я помню, как ты появился на пороге гардеробной, ставшей моей комнатой, осторожно пальчиком постучавшись в дверь и неся мне цветок из сада, ты попросил совсем тихо: «Нела, Нела, ну ты же обещала». Я действительно обещала тебе, я обещала тебе очень много, и, глядя на тебя, стоящего на пороге комнаты и не решающегося его переступить, такого хрупкого и болезненного, с каждым днем казавшегося все бледнее, с каждым днем все более измученного этим изнуряющим бегом жизни, который должен был вести тебя к старшему возрасту, но которого ты, казалось, был обречен не достигнуть, я сказала: «Хорошо». Мне кажется, что так и было, но в остальном я не уверена — именно с этого дня мои воспоминания обрываются. Иногда мне казалось, я вспоминаю, что снова вставал вопрос о месте, где ты будешь жить вместе с другими такими же детьми, как ты, и, может быть, у тебя были замыслы сбежать и как по-другому это сделать, кроме как забраться на лошадь, может быть, я даже была твоей сообщницей, может быть, я в конце концов решила сбежать с тобой, потому что, как мне рассказывали, когда нас нашли, у нас с собой была сумка с едой — куски хлеба с маслом, фрукты, конфеты, спички, — у тебя одного не могла бы возникнуть эта идея, ты никогда не думал о завтрашнем дне. Мама перестала заниматься своей уборкой, чтобы следить за нами, теперь она почти никогда не смеялась и коротко обрезала свои волосы, когда мы играли в саду, она стояла у окна на кухне, но, конечно, находясь дома, она стала больше пить, и иногда мы находили ее спящей на диване в гостиной, облокотившейся на подлокотник, словно она изо всех сил старалась не заснуть.
В тот день, как только исчезло ее лицо в окне, мы два раза досчитали до ста, потом вышли за калитку и побежали через поля. Мы не пошли той дорогой, что вела к лесу, а повернули на развилке и направились в сторону промышленной зоны, мы знали, где это, мы часто проезжали это место на машине, но никогда не останавливались там, это были огромные серые здания и ангары на голой земле без единого дерева. Нам понадобилось много времени, чтобы добраться туда. Мы нескончаемо долго блуждали между постройками, не осмеливаясь спросить дорогу, было невозможно представить, что в таком сером и грустном месте где-то могут находиться конюшни. Наконец я увидела мужчину, выходящего из машины, и, собрав всю свою смелость, подошла к нему и шепотом спросила: «Лошади, лошади», это было все, что мне удалось сказать. Он три раза просил меня повторить, а когда наконец понял, что я хочу сказать, то посмотрел на меня очень странно и недоверчиво, а потом подбородком указал на отдельно стоящий ангар со словами: «Вон там, у края поля».
Я взяла тебя за руку, и мы медленно пошли к ангару. Он был настолько непохож на то, что мы ожидали увидеть, что сначала мы думали, что мужчина ошибся или мы неправильно поняли его объяснения. Это было огромное бетонное строение, возле которого не было ни сена, ни загона, ни пастбища, — поле находилось неподалеку, но оно не было огорожено, и, если бы лошади гуляли на свободе, мы бы давно их увидели. Не было видно ни собаки, ни курицы, ни кошки, чтобы охотиться на мышей, ни красной герани в старых консервных банках, как та, которую мама раньше выращивала на подоконнике. Мы посмотрели друг на друга, и по глазам я поняла, что тобой овладел страх — может быть, из-за странности этого места, царившей там тишины или того, что мы уже заметили, но еще не успели понять, — этого запаха, ужасного запаха, стоящего в воздухе.
В этот момент с ревом появился грузовик и проехал мимо нас, обдав нас волной теплого воздуха, мы увидели, как он обогнул ангар и исчез, потом услышали, как он маневрировал, чтобы припарковаться, и наконец его мотор затих. В тишине хлопнула дверца, потом раздались голоса, потом стукнула другая дверца, гораздо более тяжелая. И тут до нас донеслось ржание, потом еще раз, уже приглушенное, разное, потом смутный и неотчетливый шум голосов, и беспорядочный топот копыт.
Я сжала твою руку, и мы пошли дальше. Мы приближались, как лунатики, нас словно больше не было здесь, страх выгнал нас из наших тел, и вот теперь мы направлялись к ужасу, к чудовищу, к монстру, от которого мы так давно старались скрыться. Маленькими шажками мы обошли ангар и увидели стоящий грузовик. Внезапно появились люди, одетые в белые халаты с капюшонами, кто-то из них, смеясь, разговаривал с водителем, а некоторые сводили по наклонной откинутой площадке лошадей, запертых в кузове. Лошади ржали от страха, раздували ноздри, их глаза были бешеными, некоторые были ранены во время перевозки, и на их шкурах виднелись открытые раны, как рубиновые украшения на грязном платье, у других крупы и ноги были в пятнах навоза.
К ангару примыкал загон, обнесенный металлическими ограждениями, его пол был изборожден рытвинами, и история, которую рассказывал этот пол, истоптанный тысячами копыт, наводила ужас. Один человек открыл загон так, что его ворота оказались как раз на уровне грузовика, чтобы сразу загнать спускающихся лошадей внутрь. Они теснили друг друга, дрожали всем телом, спотыкались и подпрыгивали. Люди кричали и смеялись, и один из них ударил палкой серого мерина, который пытался удрать, а тот, который открыл ворота, загонял остальных короткими ударами ладони по шеям и крупам. Он был одет в белый халат, как и другие, но мы сразу узнали его. Ты открыл рот, но даже не смог закричать; двери ангара были широко открыты, и мы слышали машины, гудевшие внутри, этот глухой страшный шум, и чувствовали запах крови и внутренностей. Ты долго стоял, широко открыв рот, крепко зажмурив глаза, потом наконец закричал и с этого мгновения больше не останавливался. Все люди повернулись, а тот, который стоял возле загона, казалось, зашатался, потом отпустил металлическую ограду, которую держал, и она рухнула со страшным грохотом, и бросился бежать в нашу сторону.
Но мы уже неслись прочь, я держала тебя за руку и тащила за собой; мы очутились лицом к сетке, которая отделяла участок от поля, она не была прикреплена к земле, и мы пролезли под ней. Зазор был слишком маленьким, папа не мог последовать за нами, и это помешало ему сразу догнать нас, как он надеялся. Прежде чем убежать в поле, мы обернулись и увидели его, он прижимался к сетке, и его лицо было мертвенно-бледным. А мы уже бежали, задыхаясь, в сторону леса, мы убегали от самой смерти, не от наказания, не от предательства, а от людоеда, который перелез через забор и бежал теперь позади, выкрикивая наши имена, мы не осмеливались посмотреть назад, но знали, что у него был нож, и, даже если ножа не было, он задушил бы нас голыми руками. Его шаги приближались, эхом отражаясь от твердой земли. В тот самый момент, когда мы ворвались в лес, мне смутно подумалось: так вот оно, о чем мама говорила «если они узнают», так вот оно. «Я никогда не причинял им вреда, — кричал наш отец, — я давал им пить, я их гладил, но я их не трогал, я клянусь вам, что никогда не делал им зла».
В лесу было свежо, и эта свежесть была как прохладная ладонь для наших разгоряченных лиц, но все равно было слишком поздно, слишком поздно. На четвереньках мы пробрались под кустарником и спрятались, насколько было в наших силах, но он не оставлял нас, он плакал и без конца повторял: «Я никогда не делал им зла». Так как он не отступался, с трудом переводя дух, мы спрятались за деревом, там был камень, камень с острыми углами, и там он нашел нас, он стал на колени и, вытянув руки, полз к нам через несколько разделявших нас метров, повторяя: «Я никогда не смог бы причинить им зла».
Я не знаю, кто из нас, ты или я, поднял этот камень, кто с такой силой ударил его по лицу, а он едва попытался защититься, кровь хлынула из его глаза, потом изо лба. Он поднял руки, но тотчас же безжизненно опустил их, удар, еще удар, потом еще один, его лицо было в крови и уже неузнаваемо. Он мягко осел в траву, как будто собирался отдохнуть, на локоть, потом на бок, уложив голову на мох, как уснувший ребенок. И все это время я кричала… но здесь память изменяет мне: не были ли это скорее те самые слова, которые ты кричал на следующий день, когда двери кареты скорой помощи закрылись за тобой, — «Как ты мог, как ты мог, как ты мог» — и кто тогда кричал, кто бил — я не знаю, не знаю, не знаю…
А потом наступил покой. В это, видимо, трудно поверить, но наступил покой: ангар был не так далеко, в конце поля, но деревья были непроницаемы, как стена, и стояла полная тишина. Из нашей тряпочной сумки я вынула маленькую кофту и накрыла ею плечи отца, чтобы ему не было холодно. Возле его беспомощно лежащей на земле руки я положила куски хлеба на случай, если, проснувшись, он захочет есть. Потом я поцеловала его в окровавленную щеку, но вместо того, чтобы уйти, мы остались. Мы сидели рядом, молча глядя на него.