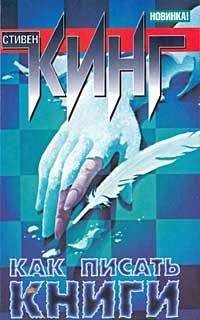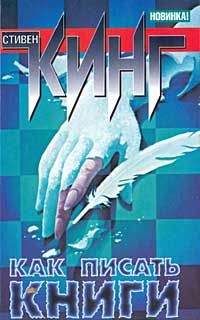Стивен Кинг - Долорес Клэйборн
Ну а Селена… думается, Селена судила меня своим судом. Иногда я ловила на себе ее глаза — темные, шквалистые — и будто слышала, как она спрашивает: «Ты с ним что-нибудь сделала? Сделала, мама? И вина моя? И платить должна я?»
Думаю, она-таки заплатила, вот что самое скверное. Маленькая девочка с острова, которая никуда из Мэна и не уезжала, пока не отправилась в Бостон на соревнования по плаванью — ей тогда уже восемнадцать было, — сделала в Нью-Йорке блестящую карьеру — о ней два года назад даже статью поместили в «Нью-Йорк таймс», знаете? Печатается во всех этих журналах… и находит время писать мне раз в неделю. Только письма эти вроде как исполнение долга, и звонки ее два раза в месяц — тоже. Думается, звонками этими и бодрыми письмецами она откупается от своего сердца, чтоб оно помалкивало о том, как она сюда никогда не ездит, как все связи со мной оборвала. Да, она сполна заплатила, и самая безвинная из всех, думается, заплатила больше всех… и по-прежнему платит.
Ей сорок четыре, замуж так и не вышла, худа как щепка (я по снимкам вижу, какие она мне иногда присылает), и, по-моему, она попивает — я не раз это в голосе у нее слышала, когда она звонит. Мне вот в голову приходит, что, может, не приезжает она сюда еще и по той причине, что не хочет, чтоб я видела, как она пьет на манер отца. А может, боится сказать лишнее, когда выпьет, а я рядом окажусь. Боится того, что вдруг да и решит спросить.
Да неважно, все это теперь дело прошлое. Я не попалась, вот что главное. Имейся страховка да не промолчи Пийз, еще неизвестно, чем бы кончилось. Конечно, лакомая страховка была бы хуже всего. Меньше всего мне требовалось, чтоб какой-нибудь въедливый страховой инспектор присоединился к въедливому шотландскому коротышке, который и так бесился при мысли, что его обставила невежественная баба с маленького острова. Да будь их двое, думается, они бы до меня добрались.
Ну и что произошло? Наверное, то, что, по-моему, всегда происходит в тех случаях, когда убийство остается нераскрытым. Жизнь продолжалась, только и всего. Никто в последнюю минуту не явился с неопровержимыми уликами, как в кино. Я больше никого не пробовала убивать, и Бог не поразил меня молнией. Может, Он решил, что сжечь меня молнией за такого, как Джо Сент-Джордж, значит, только попусту электричество расходовать.
Жизнь продолжалась, и все. Я вернулась в «Сосны» к Вере. Селена, когда вернулась осенью в школу, опять стала бывать у прежних подружек, и я иногда слышала, как она смеется, болтая по телефону. Когда мальчики поняли по-настоящему, что случилось, Малыш Пит очень расстраивался, да и Джо Младший тоже, я даже от него не ожидала. Похудел, и его кошмары мучили, но к следующему лету вроде бы совсем оправился. Единственное новое, что в шестьдесят третьем еще произошло, — я позвала Сета Рида, и он зацементировал колодец сверху.
Через шесть месяцев после его смерти все его имущество по закону отошло ко мне. Я никуда и не ходила, а просто мне прислали бумагу, в которой говорилось, что оно мое и я могу продать его, променять или в морскую пучину выбросить. Когда я осмотрела все, что он оставил, так подумала, что третье, пожалуй, самым правильным будет. Однако тут мне одна удивительная вещь открылась: коли твой муж умрет скоропостижной смертью, очень даже хорошо, если все его дружки были идиотами, вот как дружки Джо. Старый коротковолновый приемник, с которым он десять лет возился, я продала Норрису Пинету за двадцать пять долларов, а три драндулета, ржавевшие на заднем дворе, — Томми Андерсону. Этот дурень просто ухватился за них, а я на вырученные деньги купила «шевроле» пятьдесят девятого года выпуска — у него клапана постукивали, но ездил он хорошо. Еще сберегательную книжку Джо я на себя переписала и снова открыла детские счета для оплаты колледжа.
Ах да — еще одно. С января шестьдесят четвертого я стала снова своей девичьей фамилией пользоваться. Не трубила об этом на всех перекрестках, но, черт подери, я не собиралась так всю жизнь и таскать на себе «Сент-Джордж», точно собака жестянку, которую ей к хвосту привязали. Пожалуй, можно сказать, что я обрезала веревки с жестянкой… только от него я так легко не избавилась, как от его фамилии, можете мне поверить.
Да я и не ждала. Мне сейчас шестьдесят пять, и из этих лет я чуть не пятьдесят знала, что жизнь человеческая почти вся состоит из того, чтоб делать выбор да уплачивать по счетам. Выбор иногда бывает поганей некуда, но это еще не дает человеку права увиливать — особенно когда надо для других сделать то, чего сами они сделать не могут. Ну тогда делаешь выбор получше, насколько можно, а потом платишь цену. Для меня ценой были ночи, когда я просыпалась в холодном поту от страшного сна — или когда вовсе заснуть не могла. И еще — звук, который раздался, когда камень разбил ему череп и вставную челюсть. Точно фарфоровая тарелка о кирпич ударилась. Я его тридцать лет слышу. Иногда он меня будит, а иногда он мне заснуть не дает, а то я его и среди белого дня слышу. Крыльцо дома подметаю, или у Веры серебро чищу, или сижу перед телевизором, обедаю и сериал смотрю… и вдруг как услышу его. Звук этот. Или глухой стук, когда он о дно ударился. Или голос его из колодца: «До-лоррр-ииссс»…
По-моему, звуки, которые я вот так слышу, — это почти то же, что видела Вера, когда кричала про провода в углу или мусорных кроликов под кроватью. Бывали случаи — особенно как она совсем сдавать стала, — когда я забиралась к ней в постель, и обнимала ее, и думала про звук от камня, и закрывала глаза и видела — фарфоровая тарелка ударяется о кирпич и разлетается на мелкие кусочки. Чуть увижу это, обниму ее, будто сестру, будто она — это я сама. Лежим в одной кровати, каждая со своим страхом, да и задремлем вместе — я до нее мусорных кроликов не допускаю, а она звук бьющейся тарелки мне услышать не дает. А иногда, засыпая, я думала: «Вот, значит, как. Вот, значит, как ты платишь за то, что стерва. И без толку повторять, будто не была бы ты стервой, так не платила бы, потому как мир и жизнь иногда делают тебя стервой, не спрашиваясь. Когда снаружи жуть и темнота, а внутри только ты, чтоб свет зажечь и оберегать его, то приходится быть стервой. Никуда не денешься. Но зато платишь! Как платишь!»
Энди, как насчет еще глоточка из твоей бутылочки? Я ни слова никому не скажу.
Спасибо. Спасибо и тебе, Нэнси Баннистер, что терпишь такую болтливую старуху вроде меня. И как у тебя пальцы не отвалились!
Еще держатся, говоришь? Вот и хорошо. И потерпи еще немножко. Я знаю, что кружным путем к делу подбираюсь, но, думается, наконец я добралась до того, про что вам по-настоящему услышать хочется. И хорошо. Час-то поздний, и я устала. Я всю свою жизнь работала, а не помню, чтоб хоть раз уставала, как сейчас.
Вчера утром я белье вешала — будто шесть лет прошло, а было-то вчера! — и у Веры ясный день выдался. Вот почему все так неожиданно получилось и почему я совсем растерялась. Ну тут и другая причина нашлась бы. В ясные дни она иногда вела себя как последняя стерва, но тут в первый и в последний раз она совсем рехнулась.
Значит, я в боковом дворике белье вешаю, а она наверху в кресле следит за мной, как ей нравилось. Ну и кричит: «Шесть защипок, Долорес! Шесть защипок на каждую простыню! И не вздумай четырьмя обойтись, я все вижу!»
— Да, — говорю. — Знаю, и тебе только одного не хватает: чтоб сейчас мороз ударил да заштормило.
— Что-что? — кричит она. — Что ты сказала, Долорес Клейборн?
— Сказала, что кто-то свой огород унавоживает, — отвечаю, — потому как уж очень завоняло.
— Ты что-то много себе позволяешь, Долорес! — кричит она надтреснутым, дрожащим своим голосом.
Ну совсем так, как в дни, когда к ней на чердак вдруг солнышко заглянет. Я понимала, что попозже она может опять за свои штучки приняться, но это меня не заботило — в ту минуту я даже рада была услышать, что она говорит, ну совсем нормально. Правду сказать, будто все прежним стало. Ведь последние три-четыре месяца она бревном была, вот и приятно было, что вернулась прежняя Вера, то есть настолько, насколько она вообще могла вернуться, понимаете?
— Вот уж нет, Вера! — кричу ей в ответ. — Не то б я себе позволила давным-давно бросить работать у вас.
Я думала, она еще чего-нибудь завопит, только нет. Ну я все развешиваю ее простыни, да ее пеленки, да ее полотенца и все прочее. А потом, хоть в корзине еще хватало, я вдруг остановилась. Мне скверно стало. Почему да с чего — не знаю, скверно, и все тут. И странная такая мысль в голове: «У этой девочки беда… У той, что я в день затмения видела, у той, что меня видела. Она теперь выросла, она ж почти Селене ровесница, но беда у нее страшная».
Я обернулась и посмотрела вверх — так и думала, что сейчас увижу, какой эта девочка в красно-желтом платьице с алой помадой на губах теперь стала. Но я никого не увидела, а этого быть не могло. Потому не могло, что там же Вера должна была сидеть, через подоконник перевешиваться — проверять, сколько защипок на простыне. Но ее там не было, и я понять не могла, как же так: я ж сама ее в кресло посадила, а когда поставила у окна по ее вкусу, сразу тормоз закрепила.