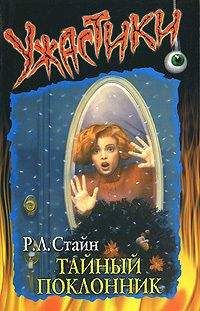Леонид Могилев - Черный нал
Многое изменилось в Эстонии. Все ближе конец республики, и все ласковее и внимательнее коренное население к тем, кто столько лет был неприятной, но необходимой реальностью. И работа есть, и говорить можно на любом языке. Тебя поймут и ответят.
Ночью я лежу и объясняю Создателю свою печаль, а потом начинаю вспоминать имена тех, с кем бы хотел говорить сейчас. Я вспоминаю китайские стихи.
Колокол дальний звучит в опустелом саду… Гуси крича улетают в дождливую тьму… Лампа осенняя — палые листья видней… Только простились — печаль…
— Их дорогие имена, — говорю я вдруг.
Круг замкнулся. Я должен снова вернуться к своему ремеслу. Я художник.
Я не все выложил тогда на консульский стол, кое-какие свертки и банки попридержал, и вот теперь, оглядев все, что есть у нас в совместном хозяйстве, мы справедливо решаем, что хватить должно на неделю, а мешок картошки, что в подвале, и вовсе продлевает праздник на бесконечное количество дней. За деньги купить уже почти ничего невозможно.
— Давай включим радио.
— Ну его к черту.
— Не хочешь — не надо. Но что-то происходит в Нарве. Там на вокзале иллюминация и шмон. Овчарки. Шпионов опознают.
— Тебя-то как не опознали?
— У меня совершенно надежные документы. А в лицо кто меня знает? Я же не государственный преступник.
— Кот твой похож на преступника. Его-то как пропустили?
— Кот — это ценный мех и деликатесное мясо. Килограмма три.
— Включай радио, резидент.
Я не стал рассказывать ей о том, что завалил Амбарцумова и Политика. Я сказал, что это сделали другие.
Выпить почти нечего. Так. Одна бутылочка какого-то ликера. Мы отпиваем по глотку, редко-редко. Под утро, когда просыпаемся и в который раз отыскиваем друг друга, она все же включает голоса этого злобного мира. И вовремя. В Нарве уже Советская республика. Красные флаги, бои на окраинах и кое-где в центре, шоссе и железная дорога перекрыты, и дикторы захлебываются от крика.
— Говорил, не надо включать.
— Слушай, а как ты теперь вернешься? Самолетом?
— На самолет денег не хватит, как, впрочем, и на общий вагон, а латыши наверняка перекрыли границу. И я остаюсь надолго. А может быть, навсегда.
— Рассказывай сказки, товарищ. Скорее кот останется.
— Кот и пес. Устроишь нас на работу?
— А что ты умеешь делать?
— Путешествовать по поддельным документам, стрелять, ориентироваться на местности, чинить автомобили. Ну и еще писать маслом и гуашью. Акварелью хуже. Могу портреты делать на Ратушной площади. «Товарищ лейтенант, тот, что с красивой дамой, разрешите портретик».
— Приготовлю-ка я завтрак.
— Отлично. А что будем делать потом?
— Будем менять вещи на рынке.
— Отличная мысль.
— Зарплату нам не платят второй месяц.
— Отличная мысль. Пойду прогуляюсь и обдумаю ее.
— Куда ты? Там патрули. Тебя поймают и опознают. Наверняка в твоих документах какая-нибудь жуть.
— Ну да…
Тут недалеко от дома, кварталах в двух, всегда был пятачок, где торговали всем, в том числе и цветами. Это поразительно. Не было сегодня ничего, только аквариум со свечкой, и в аквариуме гвоздики, и рядом старушка.
— А нет ли у вас чего-нибудь выпить, бабушка?
— У меня сейчас цветы, но приходите вечером, часам к шести. Будет что выпить для вас и вашей дамы.
— А нет ли чего-нибудь для кода?
— Он сам о себе позаботится.
— Тоже верно. Сколько вы хотите за двенадцать гвоздик?
— За двенадцать гвоздик я бы хотела двадцать четыре кроны.
— Я могу дать вам двадцать.
— Но тогда обязательно приходите вечером. Или платите двадцать четыре кроны.
— Я могу дать аванс.
— Нет. Приходите в шесть. И вот возьмите тринадцатый цветок.
— Вы думаете, это счастливое число?
— Э, мы давно уже не живем в счастье, но и в несчастье еще не живем. Мы где-то там, где нет ничего.
— Я передам привет от вас моей подруге.
— Какое плохое слово. Зовите ее дамой.
— Хорошо.
Я возвращаюсь в квартиру, обнаруживаю свою даму в ванне и вспоминаю, что горячую воду теперь дают совершенно случайно и в непредсказуемое время. Я укрываю ее цветами, и она, смеясь, протягивает ко мне Руки, я роняю свои одежды на кафельный пол и нахожу ее под красными гвоздиками в горячей воде. Ванна большая. Потом мы опять укрываемся цветами, и я не знал, что это так здорово, но потом вода начинает остывать, и мы возвращаемся в мир, забрав букет с собой, только подержав его немного под холодным краном.
Вчерашние розы держатся отлично, и комната начинает походить на банкетный зал. Мы устраиваем большой завтрак, а после ложимся в постель и засыпаем надолго. Я опять просыпаюсь первым и уже сам включаю радио. Советская республика смяла кордоны и баррикады и уже укрепилась на границах соседних районов. Из Палдиски русская морская пехота движется к Таллину. Туда же сбегается и съезжается все живое из округи. Корабли НАТО пробуют приблизиться к нам, но граница уже на замке. Потом я ловлю радио Нарвы. Войска Ленинградского военного округа входят на Северо-Запад. Я выключаю приемник.
Предвечерние часы проходят кое-как, но нас уже подхватывает тревога, да и исход близок. Мы пробуем поесть, потом садимся в кресла слушать пластинки. Это та еще коллекция. Группы каких-то металлистов, Бах, блюзы и даже отрывки московских спектаклей с Ростиславом Пляттом и старыми заслуженными актерами.
— Куда ты?
— У меня тут встреча. Интрижка маленькая. Рандеву. Приду сейчас.
— Ты что? Сиди уж. Там революция, оккупация, аннексия.
— Тут совсем не то, что ты сказала. Не пускай никого, кроме меня. Ключа не беру. Два длинных, девять коротких.
— Не ходи.
— Ну что ты? Я до угла и обратно.
Ровно шесть часов, и бабулька как из-под земли возникает в революционном воздухе.
— Слыхали? Ваши уже в Кейла и на островах.
— Надеюсь, это не причина, чтобы расторгнуть наш контракт?
— Торговля выше политики.
— Что у вас, и сколько с меня?
— Бутылочка «Виру Канге». Сорок крон.
Я пересчитываю наличность.
— А тридцать пять не устроит?
— Не устроит. Если нет денег, возьмите портвейн.
— Нет, давайте. Я вам рублями добавлю. Зачем вам теперь кроны?
— Вы думаете?
— Я знаю. Вот тридцать пять и рубли. Тут даже больше будет.
— А что с нами будет?
— Ну, мы же только торгуем. Я покупаю, вы продаете.
— За цветами утром придете?
— Если доживем.
— Смотрите.
— Спасибо вам.
— Не за что.
В этой водке пятьдесят восемь градусов, и она нас валит с ног. Мы выпиваем ровно половину, потом сидим в кресле, и мне кажется, что это все же сон и он вот-вот прервется.
Ночью наш квартал обстреливают вертолеты, а потом падают бомбы, а может, это и не бомбы вовсе. Но горят жилой дом в полукилометре от нас и фанерная фабрика. Часа в четыре ночи проходят танки, а затем начинается стрельба. Одиночными, очередями, простыми, трассирующими. Мы закрываем окна шторами, выключаем свет и обнимаемся крепко-крепко. Таллинское радио молчит, в приемнике нет диапазона коротких волн, а затем начинается скрежет в эфире. Но еще прорывается Хельсинки, потом Вильнюс, а потом, видимо, взрывается подстанция. Электричества больше нет. Батареек нет и в помине. Иногда мы выглядываем в щелку. За окном горит и продолжает гореть, даже когда перестают стрелять.
Я давно прикидываю, что мне отдать за цветы. Нет больше ни рублей, ни крон, и не занимать же у дамы. Когда рассвело и мы попили холодного чая, так как нет больше и газа, я сверяю часы и с пакетом выхожу из дома.
Это так неожиданно и страшно, что я даже не слышу слов предостережения, а только всхлипы.
Старушка на месте. Под ее ногами поблескивают автоматные гильзы, и дым близкого пожарища стелется рядом, льстиво и добротно.
— Я вижу, вы человек слова.
— Конечно. Вот отличные цветы. У них эстонское название, а как по-русски, я не совсем знаю. Спросите у своей дамы. Чем платить будете?
— Вот здесь рубашка. Совсем новая. Сорок восьмой размер. Румынская. С накладным карманом.
— О! Это стоит больше, чем цветы.
Да ладно. Какие теперь счеты. — Нет, я в долгу. Пока.
— Пока.
Я вернулся и спросил Катю, как называются цветы. Она не знает. Она ставит их в самую красивую вазу, подходит ко мне и кладет руки мне на плечи, я обнимаю ее, и мы стоим так долго-долго, словно надеемся пережить все плохие времена.