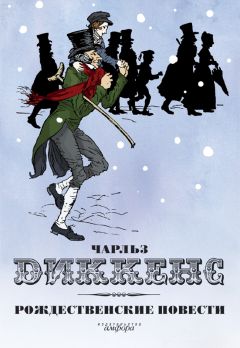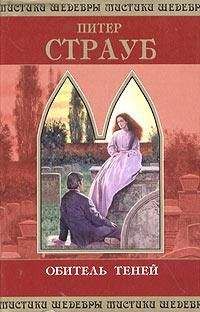Кеннет Харви - Жертва
Морти стоял в стороне, в углу у дальнего края большого зеркала во всю стену. Он отошел подальше, чтобы не маячить на глазах, он беспокоился о том, чтобы не мешаться, о том, чтобы стать незаметным, о том, чтобы сделать то, что ему велели. Он еще раз помыл руки, стараясь смешаться с остальными, на его лице играла улыбка, когда он отряхивал руки, выпрямлялся и отворачивался от раковины, а фальшивые усы над губами чуть отклеились с одного кончика. Он направился к бумажным салфеткам, вытер руки, кивнул какому-то бизнесмену, и его уверенная улыбка застыла от удара, когда нож, брошенный в его сторону и вонзившийся ему в шею, толкнул его к стене и выплеснул красную кляксу на кафель в том месте, где острие вышло из горла. Он осел, как мешок, весь залитый кровью, колени согнулись, и осторожно дотронулся пальцами до горла недоверчивым жестом, как будто кто-то застегнул фантастическое ожерелье у него на шее.
В сумятице среди ошарашенных мужчин, окруживших Морти, Небесный Конь отвязал ножны, спустил их в унитаз и вышел из кабинки.
— Что случилось? — спросил он одного из стоявших над телом.
Человек пожал плечами и снова посмотрел на Морти.
— Я позову полицию, — сказал Небесный Конь.
Выйдя из туалета, он целеустремленно направился к ждавшей его женщине.
— Я уже начала волноваться, — сказала Алексис, беря его под руку.
— Волноваться не о чем, — спокойно посоветовал он. — Ты слишком много волнуешься.
Она подошла к очереди у паспортного контроля.
— Ты хоть чуть-чуть нервничаешь?
— С какой стати? — Он повесил на плечо сумку и посмотрел на нее.
— Из-за полета.
— Я летать не боюсь. Я всегда думаю только о том, что ждет меня на том конце. Никогда не думаю о дороге.
— Солнце и песок. — Она поправила ремень своей дорожной сумки.
— Да.
Он заметил легкость его правой ноги, легкость его шага, когда уже не было ножа и ножен, заметил незанятость этого пространства на своей дышащей коже. Свежесть. Все маски сброшены. Он взял Алексис за руку.
Теперь осталось только подняться в небо.
28
Торонто
Кроу взял видеокамеру под подписку из 52-го отдела и без пленки установил ее в комнате дома в окрестностях Уитби. Он освободил ноги пленникам и выпустил обоих во двор, ему пришлось сдерживаться, чтобы не пристрелить их там же и тогда же, пока они шли впереди, пристрелить, чтобы их тела упали на замерзшие следы колес, оставленные посетителями этого дома жестокостей, оставив их кровоточить на холоде, чтобы от их тел поднимался пар. Кроу пришлось стряхнуть с себя эту мысль. Это было бы слишком легко. Так он почувствует даже еще большую пустоту. Ему нужно было затянуть процесс, чтобы наполнить пустоту раскаяния долгой, более существенной игрой страдания.
Внутри Кроу сорвал натянутую повсюду желтую полицейскую ленту, потом отвел пленников наверх, смахнул желтую ленту поперек двери и вошел в комнату. Он опять связал ноги Олкоку и толкнул его на матрас, потом привязал Ньюлэнда к стулу, чтобы тот смотрел. Он даст им попробовать собственного лекарства, побыть в шкуре девушек, которых они истязали. Начнет резать их неглубоко, и постепенно раны будут становиться все глубже, а потом он бросит их умирать от потери крови.
Кроу снял пальто, положил на стул, закатал рукава джинсовой рубашки и встал неподвижно, купаясь в страхе двоих мужчин, принимая его, вбирая его за всех тех девушек, которых они убили, упиваясь, наполняясь им, пока его не испугала дрожь под кожей и шум в голове, и он уже не знал, хватит ли ему злости, чтобы сделать то, что он собирался. Сможет ли он заставить себя взрастить такое бесстыдное вожделение к смерти?
Кроу оставался неподвижен, лихорадочно бдителен, Олкок лежал на матрасе сбоку лицом к нему, а Ньюлэнд глядел со стула умоляющими глазами, не чувствуя в этом никакого смысла.
Как далеко он может зайти? Кроу подумал о жене Грэма Олкока, об их дочери. О боли, которую вызовет смерть одного человека, о боли, которую Олкок навлек на семьи тех, с кем он расправлялся такими жестокими, немыслимыми способами. Семьи, которым до конца дней придется жить с этим мучительным знанием. Их дети убиты в муках, несмолкаемые крики их детей сделают их глухими и слепыми к доводам разума и целесообразности, заставят забыть о том, что в этом мире случаются и добрые дела.
Он перевел взгляд на Стэна Ньюлэнда. Если кто-то и заслуживает медленной и мучительной смерти, так это он. Разбираться в этом для Кроу было уже слишком. Охватившее его безумное ощущение власти оказалось ложным. Он это понял. С ним, как с офицером полиции, уже бывало, что на него накатывал прилив всемогущества, но теперь это было другое, более личное, почти интимное сочетание превосходства и мести.
Смерть этих двух людей даст ему чувство облегчения, но какую пользу принесет она тем, кто уже умер? Это чистый эгоизм. Эти двое должны понести такое наказание, чтобы остальные узнали о том, какая участь постигает злодеев. Долгий судебный процесс, широко освещаемый средствами массовой информации. Как бы он ни презирал хищную природу прессы, они предостерегут родителей об опасностях, грозящих детям. Будьте осторожны. Бойтесь. Ваши дети вырастают, приближаясь к мучительному концу. Вы должны ценить их.
Но как быть с новыми ограничениями на освещение процессов в прессе? Будут ли эти меры приняты в данном случае, чтобы защитить невинных? А как быть с невинными, за которыми продолжится охота? Что остановит спрос?
Подняв револьвер, взятый из бардачка в машине Ньюлэнда, Кроу обошел матрас с другой стороны и нацелился в затылок Олкока. Он встал в позу, которая представлялась ему на видео с мучениями Дженни, мысленно надел на себя ее разбитые очки и по инерции этого воспоминания спустил курок. Гром выстрела сотряс тело Олкока и весь верхний этаж, сообщив Кроу о величине комнаты. Среднего размера обширность, определенная эхом.
Ньюлэнд смотрел вверх со своего стула глазами, зараженными красным страхом, повсюду брызги крови и мозгов широкими и свежими мазками. Влажный, хлюпающий звук ударил в стену. Безумный, сердцебиенный крик его тела, конечный акт самопоглощения, его наступающей смерти. Он закрыл глаза и глубоко вздохнул, держась за себя, ожидая, когда услышит освобождающий щелчок.
— Ты достоин лучшего, — сказал Кроу, целясь Ньюлэнду в голову, и расстрелял оставшиеся патроны, не считая выстрелов, но воспринимая их как один мощный голос, наполняющий его голову, и он становился сильнее от грохота и дыма стрельбы, от чувства воздаяния, пока Ньюлэнд полностью не лишился головы.
Теперь остались только два тела. Больше ничего. Окровавленные и безлицые. Кроу сделал свое дело. Он опустил револьвер и снял черные перчатки, чтобы дать пальцам ощутить воздух, стараясь ни до чего не дотрагиваться на обратном пути, потом опять надел одну перчатку, чтобы открыть дверь.
Никто никогда не узнает, что он был там. Скажут, что произошла очередная криминальная разборка. Он подпустит в печать необходимые сведения о грязных махинациях, в которых участвовали они оба. Надули кого-то из соучастников. В таком исходе нет ничего необычного. Совсем ничего необычного.
— Папа, — сказала Кимберли, когда вечером мать подтыкала ей одеяло.
Она протянула руки, чтобы обнять, и держала их, смеясь Триш в ухо, потом улеглась в кровати.
— Где папа?
— Папы нет дома, детка. — Триш чуть не подавилась этими словами.
— Папа идет?
— Спи, детка. — Триш дотронулась до мягкого лица дочери, погладила ее по щеке и шептала: — Тихо, милая, тихо, — пока глаза Кимберли медленно закрывались, потом на миг открылись, лениво, взгляд расфокусирован, и тут же снова закрылись.
Триш поцеловала дочь, задержав лицо у ангельских губ спящей Кимберли. Она дотронулась до светлых кудряшек, пригладила простыни, потом встала и посмотрела на своего безупречного ребенка с глубоким ощущением благодати.
Подходя к двери, она взглянула на ночник в виде русалочки с румяным, улыбающимся лицом, машущими руками. Она посмотрела в окно детской, сквозь кружевные занавески, и увидела окаймлявшие улицу дома, треугольные, засыпанные снегом крыши, роскошные седаны, припаркованные у каждых ворот. Парень и девушка шли по улице, держась за руки. Триш показалось, что она узнала в девушке дочь одной из соседок. Девушка побежала вперед, набрала пригоршню снега с лужайки, быстрыми хлопками слепила в снежок и неуклюже бросила в парня, который сумел уклониться. Девушка подождала, потом побежала от него, но парень легко ее догнал, подхватил со спины и поднял в воздух. Потом они поцеловались.
Наблюдая эту сцену, Триш почувствовала слабость, вспомнив подростковое томление, драгоценное ощущение страсти, занимавшее весь ее ум, она мечтала только об этом. О чем-то простом и волшебном. О любви без всех ее сложных условий. Она покачала головой, не зная почему подумав о Грэме, и дала зарок не обманывать себя. Триш обнаружила, что боится его возвращения, гораздо больше боится оказаться с ним лицом к лицу, чем услышать новость о его смерти.