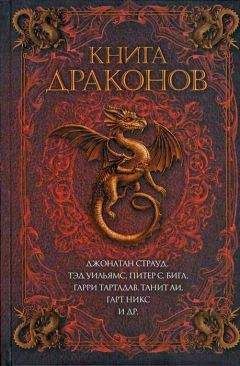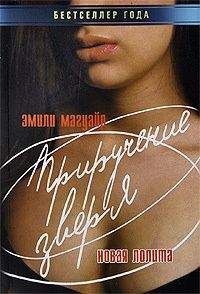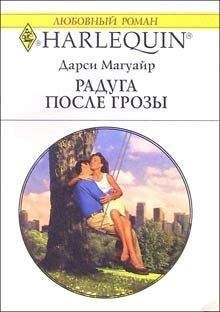Алла Дымовская - Мирянин
Вот и к нам временно прибился один такой, Талдыкин Юрася. Откуда он взялся вообще, я, честно говоря, запамятовал. То ли из Комсомольска-на-Амуре, то ли из захолустного Усть-Каменодрищенска. В общем, из чего-то крепко мещански-провинциального. И не в смысле тихой провинции, навевающей мысли о палисадничках и деревянных домиках с петухами на крышах, где вокруг и природа, и огород с колодцем, и старая церковка, помнящая еще набаты при монгольском нашествии. О нет, то была провинция иная, сталинский новодел, помесь малограмотных энтузиастов с бывшими зеками, искажавшая в себе вести из большого мира до совершенной неузнаваемости. Где символом достатка были магазинная водка на столе и грубый отечественный литой хрусталь в буфетах, клетка в прокопченном бетонном курятнике, жалованая за заслуги от производства, да дрянной кассетный магнитофон, заводимый в праздники непременно так, чтобы стены дрожали. Впрочем, пили там и не в праздники, а часто и просто так, от тоски, которую сами не сознавали, и оттого ссоры и драки никого удивлять не могли. И отношение к женской части населения у мужской половины преобладало чисто утилитарное, чтоб было с кем спать и чтоб было кому на них горбатиться, в смысле приготовить и постирать, а более ничего и не имелось в виду.
И конечно, когда наш Юрася Талдыкин попал, что называется, в большой свет (а как попал, о тех способах вам известно не менее моего), да еще с деньгами попал, и огляделся, и обнаружил многих, на себя похожих, то оно и вышло, как в народной поговорке про свинью, – которую за стол пустили.
Ему, кажется, и в мыслях не являлось, что он, Юрася, – компания для Никиты Пряничникова и его друзей неподходящая. Что кто-то может не хотеть и брезговать даже его обществом. Как же?! Ведь у него и деньги, и за деньги дома, тачки, бабы, и все как у всех, в его понимании, конечно. Юрася полагал, раз Ника его партнер и, стало быть, ближайший человек в бизнесе, значит, тот все свое время делить с ним обязан. Закон стада. И бедному Никите ничего более не оставалось, как позволить Юрасе притащиться следом на хвосте в наш узкий круг. Потому что слов «неудобно» и «стеснительно» и прочих намеков тот не понимал. Не специально делал вид, а не понимал в действительности. Он получался по-своему счастливый человек.
Но самое занятное, непреложное обстоятельство, которое до сих пор не вполне укладывается у меня в голове, это, пожалуй, то, что Юрася был почти женат. Я не оговорился, именно почти. Он давным-давно, еще с малоимущих своих времен, жил с женщиной – в одном доме и единым хозяйством жил, – с которой и наплодил четверых детей. Но оформлять по закону эти отношения даже не собирался. И считал это нормальным совершенно. Гражданская жена его обеспечена была всем с головы до ног, даже машиной «Мерседес» и бриллиантами на черный день, и за каждый кусок платила смиренной покорностью и терпением грубых унижений под горячую руку своего властелина и кормильца, впрочем, по слухам, и не считала это чем-то из ряда вон. В своей провинции ей, видно, пришлось бы выносить все то же самое, только совершенно задаром. Женщину эту Юрася на людях не являл, вел себя человеком холостым, отдыхать ездил исключительно в обществе разнообразных красоток, спровадив обыкновенно свою почти жену с детьми к какому-нибудь противоположному морю.
Я, собственно, ничего личного против Талдыкина не имел. Ну, хам и хам, мало ли я видел неотесанных нуворишей. Вот только никак его нельзя было отучить материться через слово, – его способность предаваться даже без повода феерическому мату меня поражала. Правда, Юрася утверждал, что привычка эта сложилась в нем еще со времен его срочной службы на флоте, где, впрочем, он подвизался, кажется, на сладком месте корабельного кока или его помощника.
Но впоследствии стало проясняться, что Юрася имел много чего ко мне. Я понял вскоре, что был для него, как бы луной с неба для человека, у которого все остальное уже есть. И далеко и ни к чему не нужно, но хочется, а чего хочется, понимается смутно. Чтоб было.
И вот Талдыкин стал потихоньку меня доставать. Как же, на его глазах все время нормальный молодой мужик, уже хорошо за тридцать, и вдруг кандидат наук и почти профессор! И, главное, чего? Загадочной науки филологии и еще более непроизносимой лингвистики. И преподает студентам, обхохочешься что. Латынь. За такие же смешные деньги. Но на этом смех для Юраси заканчивался, и начиналось совсем уж непонятное. Его собственный компаньон вместе со своим не менее, если не более, состоятельным другом этого потешного мужика уважали как равного и даже чему-то в его жизни завидовали. Гордились им. Этого мозги Юраси одолеть никак не могли. И он, тяготясь непонятным ему фактом жизни, постоянно меня провоцировал. Как скверно воспитанный школьник из неблагополучной семьи. Например, шелестя лохматой стопкой денег у меня перед носом, мог вдруг крикнуть:
– Сгоняй, будь другом, до моей тачки, скажи водиле, чтоб из города привез шампусика! – А дело происходило на Антошиной даче, где спиртного всегда навалом, благо Ливадин почти не пил. («Неужто так плохо, Юрий Петрович, что совсем ты ногами инвалид? Так мы сейчас быстренько в "03", – и за телефонную трубку.)
Или в хорошем ресторане, где отдыхали всей компанией, клал Юрася мне руку на плечо и похлопывал, приговаривая:
– Эх, сегодня наука за мой счет! – и подмигивал, словно приглашал в заговор. («На всю науку, у тебя, Юрий Петрович, денег не хватит, и не от всякого возьмут, а возьмут, так спасибо не скажут, сие есть общественный долг гражданина».)
Всякий раз получал он с моей стороны от ворот поворот, не злобно, но выглядел при этом глупо и смешно и не мог понять, отчего так происходит. А я имел дело в своей профессиональной сфере с каверзной студенческой ордой, острословной и падкой до обидных розыгрышей, и уж Юрасины выходки на этом фоне смотрелись довольно жалко. Друзья мои не вмешивались в наши с ним конфликты, понимали, что с этим петухом в страусовых перьях я справлюсь и сам, и даже, пожалуй, несколько радовались, что Юрасю ставил на место человек, которому нечего было с ним делить. Для самоутверждения Талдыкин всякий раз пытался всучить мне деньги и тем купить, но денег оказывалось недостаточно, от него требовали как бы чего-то иного, а ничего, кроме денег, у Юраси за душой не было, и это приводило его в замешательство. Хотя, на самом деле, я абсолютно не представлял для него ни малейшего интереса, ни в прошлом, ни в настоящем, ни тем более в будущем времени. И поэтому он особенно тщился одержать надо мной верх. В этом Юрася был сродни любителю-альпинисту, штурмующему горную вершину. И опасно, и с собой высоту не унесешь, и денег не прибавится, только расход, но вот же зудит в одном месте.
Кое в чем, однако, Талдыкин смог меня зацепить. Именно по глупости своей, не разобрав, где черт, а где его кочерга. А случилось так из-за моего прозвища. Да и не прозвища даже – просто словечка, означающего как бы атрибут, прилагаемый к человеку близкими его. Так, например, про кого-то родные и друзья-приятели скажут «неряха», или «тормоз», или, наоборот, «шило в заднице», отмечая некое качество человека сообразно частным сторонам его натуры. Вот и ко мне, с не так уж и давних времен, прилепилась эта отметина. «Святой». К религиозному культу слово это совсем не имело отношения. Как и к праведному образу жизни. Напротив, я, ваш покорный слуга, Алексей Львович Равенский, и выпивал по случаю, и курил табак, хоть и умеренно, и женщин не избегал. Хотя последние, отмечу, справедливости ради, не сильно обращали на меня внимание, а если и обращали, то серьезных планов не строили. Отчего так, об этом тоже здесь, но позже.
Святой – для Ники и Антона означало: избегший соблазнов нового времени сего. Не уклонившийся с пути, не преступивший через мечту, не разменявший таланта на злато. Плывущий не в потоке вместе со всеми, а как бы сквозь него, и оттого обретший подлинный смысл жизни. А мне было не лестно, – напротив, раздражало, да ведь я понимал, что протестовать бесполезно. Раз уж прилепилось, теперь не отдерешь. Хотя, если на то пошло, на поводу у себя идти всегда легче и приятней, чем себе же наперекор делать то, что считаешь должным из-за принуждающих извне обстоятельств.
А Юрася великим умом своим порешил, что это прозвище обидное и дано в насмешку, да так его и поминал при мне. И радостно было ему видеть, как я при этом морщусь непритворно.
И вот теперь Юрасю подозревают, пока не более того, в причастности к убийству друга моего Ники Пряничникова, русского бизнесмена средней руки. С сегодняшнего дня и по моей вине. Тут возникает вопрос. А почему только с сегодняшнего? Фидель ведет это расследование уже третьи сутки, и всех нас допросил уже раза два по кругу и вразброс. И значит, не только я, но и Антон, и Наташа, и даже Олеся ничего не сказали ему о компаньоне убитого. Что Юрася промолчал, это понятно. Вика, та, положим, ничего не знала, – случайная подружка на один сезон. Значит, мои друзья, как и я сам до нынешнего дня, полагали фигуру Юраси в этом происшествии второстепенной, могущей лишь увести следствие не в ту совсем сторону. А может, не желали, чтобы чужеземная полиция вторгалась в наши приватные отношения. А это уже было глупо и недальновидно. Потому что от российского консульства подмоги пока вышло чуть. Прислали к нам помощника старшего дворника, средних лет язвенника-неудачника, некоего господина Кичкина, из тех, что вечно всем недовольны и строят из себя персону, а делать дело почитают за излишний труд. Кичкин поначалу попробовал себя на роль переводчика для полиции, но ему надоело очень скоро, и он перевесил эту обязанность на местного агента нашей турфирмы Марианну, как на человека независимого и незаинтересованного. А сам Кичкин еще покрутился немного, вынюхивая, не перепадет ли что ему частным образом. Но Ливадин ничего ему не дал, потому что никакого проку в господине Кичкине не увидел, а Юрася, по новорусской привычке совать всем на всякий случай, выложил было денежки, но, разумно оглядевшись на Тошу, немедленно прибрал их назад. И правильно, такие, как этот Кичкин, только производят лишний шум, весу же не имеют ровно никакого. В общем, господин Кичкин оставил нас в покое, и то спасибо, клятвенно пообещав, что пребудет в курсе расследования, а если что, нам надлежало звонить ему в консульство. Был бы толк.