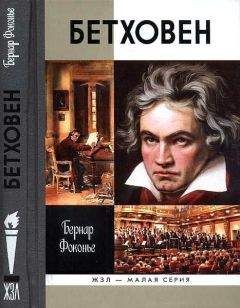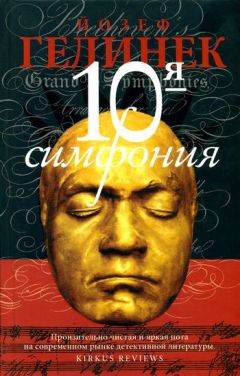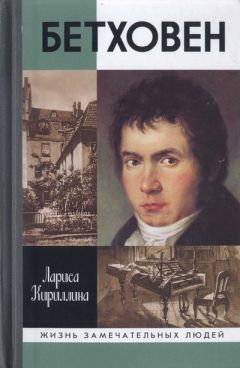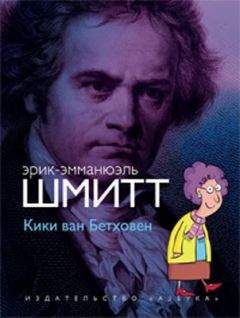Йозеф Гелинек - 10-я симфония
Когда Мараньон вошел в библиотеку, полицейский листал известнейшую книгу «Архитектура счастья», рассказывающую о достоинствах, которыми должно обладать каждое хорошее здание.
— Из всех книг, которые здесь находятся, это моя любимая, инспектор, — произнес Мараньон, слегка напугав Матеоса, стоявшего спиной к двери и не заметившего хозяина дома.
После энергичного рукопожатия и обмена стандартными репликами относительно хода следствия Мараньон пригласил инспектора сесть, и тот стал объяснять причину своего визита:
— Мы добросовестно изучили видеосъемку, сделанную камерами наружного наблюдения, и теперь можем с уверенностью утверждать, что в ту ночь, когда Томас был убит, он вышел из здания один.
— И что в этом удивительного?
— Если у нас верная информация, Томас приехал в Испанию со своим другом, Оливье Делормом, который тоже присутствовал на концерте. Разве не естественно им было бы уйти из вашего дома вместе?
— Наверное, да. Но после концерта был устроен прием с танцами, который продолжался до утра, поэтому Делорм мог остаться. Томас устал от репетиций и приготовлений к концерту, и ему в тот вечер, как говорится, было не до танцев.
— Он попрощался с вами перед уходом?
— Сказать по правде, нет. Возможно, он искал меня, чтобы попрощаться, но не нашел. В ту ночь я был занят гостями.
— Вы, случайно, не видели, чтобы он в тот вечер или в последние дни перед концертом спорил со своим другом?
— Нет. Неужели вы подозреваете Оливье Делорма?
— Откровенно говоря, сеньор Мараньон, у нас нет подозреваемого, хотя появился возможный мотив преступления.
— Но ведь орудие убийства еще не обнаружено, правда? А из публикаций в прессе всем известно, что в моем доме находится гильотина, подлинная вещь тысяча семьсот девяносто второго года.
— Да, действительно.
— Вам хотелось бы ее осмотреть?
— Еще не знаю. А можно?
— Если это будет сделано без огласки. Хотя придется подождать несколько дней, пока ее вернут в мой дом.
— Отдавали на выставку?
— Нет, я отдал ее почистить.
— Откровенно говоря, это очень любопытно, — сказал Матеос. — В городе совершается преступление с использованием гильотины, и как раз тогда, когда начинается расследование, вы отдаете ее почистить.
— Действительно, трудно поверить, но я уже несколько месяцев думал, что эта жемчужина моей коллекции нуждается в осмотре и наладке. Орудия пыток не слишком отличаются от музыкальных инструментов: если ими не пользуются, они приходят в негодность. Я забыл о гильотине, пока убийство Томаса не напомнило мне, что пора привести в порядок мою собственную. Мне нравится, когда механизмы работают безукоризненно.
— Кто же приводит ее в порядок?
— Парижский скрипичный мастер Ален Сабатье.
— Ваша гильотина сейчас в Париже?
— Почему это вас удивляет? Есть антикварные вещи, которые я берегу как зеницу ока, и мне нравится, когда они в хороших руках.
— А почему вы доверили ее скрипичному мастеру?
— Первая гильотина была сконструирована во Франции, дорогой инспектор, ее изготовил мастер по клавесинам Тобиас Шмидт.
— Я думал, это был доктор Гильотен.
— Гильотен — теоретик. Был век Просвещения, и революционеры искали способ быстро и безболезненно казнить королей, отвергая варварские казни, применявшиеся к абсолютным монархам со Средних веков. Проектом первого устройства мы обязаны доктору Антуану Луи, славному члену Хирургической академии, который передал чертежи Шмидту, чтобы тот изготовил первую гильотину.
— Не думаю, что наши эксперты-криминалисты заинтересуются осмотром вашей гильотины после того, как она побывала в руках парижского мастера.
— Ну что вы, инспектор. Я же не просил поменять лезвие, только смазать и подогнать части механизма. Любой сведущий судебный медик тут же установит связь между каким-нибудь мелким дефектом на ноже и аналогичным следом на шее жертвы.
Признав правоту собеседника, Матеос перешел к другой теме:
— Еще мне хотелось бы поговорить о полумиллионе евро, которые вы обещали в награду за партитуру.
— Вижу, вы общаетесь с этим молодым человеком, Даниэлем Паниагуа.
— Коль скоро мотив преступления — партитура, она должна стоить очень дорого. Думаю, если кто-то из ваших охотников за наградой ее найдет, сначала ее следует предоставить в распоряжение полиции.
— Конечно, инспектор. Самое главное — найти виновного в убийстве Томаса.
Матеос встал, собираясь завершить визит, но Мараньон задержал его:
— Я слышал, что ноты, вытатуированные на голове Томаса, соответствуют восьми цифрам в азбуке Морзе.
— Мы действительно работаем над этой гипотезой. А почему вы об этом спрашиваете?
— У меня есть теория относительно того, чему могут соответствовать эти восемь знаков, — сказал Мараньон, широко улыбаясь. — Если вы будете так любезны пройти в мой кабинет, я тут же вам ее объясню.
Глава 41
Следуя рекомендациям судьи, Даниэль договорился о встрече с дочерью Томаса, Софи Лучани, надеясь получить запись концерта или экземпляр партитуры, над которой работал музыкант. Паниагуа был убежден, что основательное знание композиторской техники Бетховена и неспешный глубокий анализ работы Томаса позволят ему подтвердить свою догадку.
Даниэль явился к месту встречи с Софи Лучани на полчаса раньше назначенного времени. В кафе отеля «Палас» было пусто, если не считать двух тощих девочек-подростков, потягивающих за барной стойкой кока-колу и каждые пять секунд обменивающихся глупыми улыбками. Даниэль отметил, что недавно мыли пол, в воздухе еще витал слабый запах щелока, от которого его замутило. И почему в отелях этой категории не обращают внимания на подобные мелочи? Он сел за стол с самыми удобными креслами, а когда к нему подошел официант, заказал джин с тоником.
— Вы наш постоялец?
Даниэль чуть было не сказал «да» и не назвал вымышленный номер. Что он теряет? Если официант проверит номер, он всегда может ответить, что у него отшибло память, и заплатить. Но даже тут присущий ему и известный всем нам страх совершить промах заставил его сказать правду. Ему тут же пришлось об этом пожалеть: с него взяли двадцать евро за напиток, представлявший собой джин, в который официант плеснул немного тоника.
Минут через десять он услышал за спиной звук настолько отвратительный, что его ни с чем не спутаешь: игру на гостиничном рояле. Должно быть, пианисты в отелях, подумал Даниэль, получают приказ от работодателей не привлекать внимания клиентов, а играть так, чтобы одна мелодия походила на другую. То есть в манере, совершенно непригодной для музыки Бетховена, получившего прозвище «испанец» не только за смуглое лицо, но и за небывалую ритмическую мощь своих произведений, начиная с Седьмой симфонии, которую Рихард Вагнер назвал «апофеозом танца». Возможно, у знаменитого уроженца Бонна не было мелодического дара Чайковского или Моцарта, но то, что он писал, всегда хотелось отстукивать пальцами или ногами в ритме его энергичных тактов. Музыканты в отелях, напротив, умели только успокаивать, и Даниэль, закрыв глаза, откинулся на спинку кресла и стал покачиваться под предсказуемые слащавые аккорды, а так как джин с тоником уже возымел свое действие, минуты через три он задремал. Проснувшись, он увидел, что с назначенного времени прошло уже двадцать минут, а никакой Софи Лучани нет и в помине: только парочка геев-французов, настолько изысканных, что они одним своим присутствием придавали бару в английском стиле некую гламурность, да американская пенсионерка в очках-бабочках, бранившая своего похожего на сосиску пса. Девушки не было. Он допил джин с тоником, который уже потерял всякий вид, и дождался момента, когда пианист начал исполнять что-то менее избитое, чем «Мой путь» Пола Анки, — «медленно и печально» зазвучала мелодия из «Гипнопедии № 1» Эрика Сати. Даниэль, всегда любивший эту вещь, вслушался и понял, что ему нравится исполнение. Повернув голову, чтобы разглядеть пианиста, он увидел за фортепьяно саму Софи Лучани. С распущенными волосами, как в тот вечер, но одетую гораздо скромнее: в черном свитере с высоким воротом, черных брюках и красном броском жакете, которые ей очень шли. Даниэль дождался, когда она кончит играть, и, услышав аплодисменты четырех-пяти постояльцев, обративших на игру внимание, направился прямо к фортепьяно, чтобы представиться. Английский у него был неплохой, если не обращать внимания на произношение, в котором слишком явно слышались испанские звуки вперемешку с итальянскими. Дуран как-то записал ему на листке бумаги несколько расхожих фраз на французском, и Даниэль считал, что они с девушкой сумеют понять друг друга.
— Я Даниэль Паниагуа.
Она приблизила к нему лицо, чтобы обменяться поцелуями.