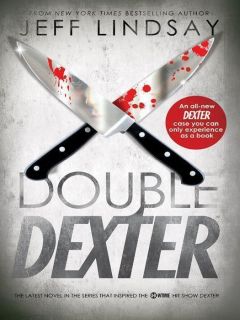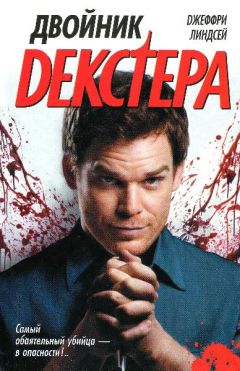Джеффри Линдсей - Деликатесы Декстера
Наши глаза распахиваются навстречу пейзажу, состоящему из теней, и мы с ледяным спокойствием и готовностью ко всему осматриваем каждый островок темноты в поисках движения, в поисках самого незначительного признака, говорящего о том, что за нами наблюдают. Мы не видим никого — ни животное, ни человека, ни другого такого же, как мы. Никто не шевельнулся во тьме, мы — единственные, мы вышли на охоту сегодня ночью. Так и должно быть. Мы готовы.
Один осторожный шаг за другим, вокруг квартала назад, к скромному желтому домику, мы идеально делаем вид, будто просто прогуливаемся. Мы осторожно проскальзываем мимо и прячемся в кустах у соседнего дома. Мы ждем. Ни один звук не пытается нам помешать, ничто не движется поблизости и не затаилось вместе с нами. Мы одни, мы сокрыты, мы готовы и подбираемся ближе — тихо и осторожно, а вот и выцветшая желтая стена. Мы глубоко вздыхаем и превращаемся в безмолвную тень среди теней.
Еще ближе, так же тихо и осторожно, все идет как нужно, и вот мы уже у задней двери «мустанга».
Мы открываем замок — презренная маленькая тварь не сделала ничего, чтобы усложнить нам задачу, — тихо и осторожно скользим на заднее сиденье. Мы растворяемся в темноте на полу машины и ждем.
Секунды, минуты — время идет, и мы ждем. Ожидание — это легко, естественно, это неотъемлемая часть охоты. Мы тихо и размеренно дышим, реальность вокруг нас свернулась холодными кольцами в ожидании того, что должно произойти.
И оно начинается.
Крик в отдалении. Дверь открывается, и мы слышим конец долгого спора.
— Адвокат сказал, так надо! — говорит он своим мерзким голосом. — А сейчас я на работу, ясно?
Он захлопывает дверь и поспешно идет к «мустангу». Он что-то бормочет своим гнусным голоском, пока открывает дверь и запрыгивает на водительское сиденье. Когда он включает зажигание и запускает мотор, тени позади него извергают темную фигуру, и мы быстро и бесшумно накидываем ему на шею нейлоновую петлю, которая отнимает у него способность мыслить и дышать.
— Молчи и не двигайся, — произносим мы жутким голосом другого. Он дергается и замирает как статуя. — Слушай внимательно, делай, как мы говорим, и проживешь немного дольше. Ясно?
Он судорожно кивает. Его глаза вытаращены от ужаса, лицо постепенно синеет от нехватки воздуха. Мы показываем ему, как это — не иметь возможности дышать, маленький экскурс в его ближайшее будущее, в его приближающуюся вечность бескрайней тьмы, где уже не будет места дыханию.
Мы слегка усиливаем натяжение, просто даем понять, что мы можем потянуть намного сильнее, тянуть, пока все не закончится прямо здесь и сейчас. Его лицо становится еще темнее, глаза начинают вылезать из орбит и наливаются кровью…
…и мы возвращаем ему способность дышать, разжимаем руку и позволяем петле немного ослабнуть. Совсем ненадолго, только для того, чтобы его пересохший рот смог глотнуть немного воздуха. И мы вновь затягиваем петлю, лишая его способности дышать и говорить.
— Ты принадлежишь мне, — говорим мы ему, и в нашем голосе нет ничего, кроме холодной правды.
Он осознает, какое будущее его ожидает, и на секунду забывает, что не может дышать. Он вскидывает руки, и мы усиливаем натяжение.
— Довольно, — приказываем мы, и наше ледяное шипение тут же останавливает его.
Мы ввергаем его гадкий маленький мирок во тьму. На этот раз ненадолго, так, чтобы, когда мы ослабим натяжение петли, у него появилась надежда. Крохотная, хрупкая надежда, сотканная из лучей лунного света, надежда, которая проживет ровно столько, сколько он будет оставаться послушным и тихим, до тех пор пока не затихнет навечно.
— Езжай, — говорим мы, слегка дергая петлю, и вновь позволяем ему дышать.
Какое-то время он не двигается, и мы тянем за петлю.
— Ну, — говорим мы, и он судорожно дергается, чтобы показать нам свою готовность услужить, и трогается с места. Мы медленно выезжаем с подъездной дорожки и удаляемся от маленького светло-желтого дома, от его ничтожной грязной жизни и приближаемся к темным радостям его будущего, которому будет посвящена эта лунная ночь.
Взявшись за нейлоновую удавку, мы ведем его в пустой дом, быстрыми и осторожными шагами сквозь темноту к комнате, которую для него приготовили. В комнату со стенами, оклеенными пластиковой пленкой, где серебряные стержни лунного света пронзают окно в потолке и освещают разделочный стол так, будто это алтарь в соборе, посвященном боли. Именно этим он и является: здесь храм страдания, и сегодня мы священник, мы исполняем обряды, и мы проведем его через все этапы ритуала к его последнему просветлению и исходу, к Божественному милосердию.
Мы останавливаем его у стола и позволяем немного подышать, совсем недолго, так, чтобы он успел понять, что его ожидает. Его страх усиливается, когда он осознает все происходящее, и он, выворачивая шею, смотрит на нас в надежде, что это чья-то грубая шутка.
— Эй, — произносит он своим искалеченным горлом.
В его глазах медленно проступает понимание, и он трясет головой так, как только позволяет ему удавка.
— Ты ведь тот полицейский, — говорит он, и в его глазах расцветает надежда, и она слышится в его новом хриплом голосе, когда он скрипит: — Ты тот чертов коп, который был вместе с этой ненормальной полицейской сучкой. Ты в такой заднице. Твою мать, я сделаю все, чтобы ты сел, ты, кусок дерьма…
Мы снова затягиваем петлю, на этот раз очень сильно, и его грязное карканье прерывается, и вновь его мир погружается во тьму. Он бессильно царапает нейлон до тех пор, пока не забывает, для чего предназначены его пальцы. Его руки падают как плети, он опускается на колени, а я тяну все сильнее и сильнее, и наконец его глаза закатываются и он мешком оседает на пол.
Мы принимаемся за работу: перекладываем его на разделочный стол, срезаем с него одежду, связываем клейкой лентой, полностью лишая подвижности, — и все это надо проделать до того, как он придет в себя. Скоро он возвращается в сознание. В ужасе он хлопает веками, его руки слегка подергиваются под лентой, пока он привыкает к положению, в котором ему придется провести остаток жизни. Его глаза открываются еще шире, и он изо всех сил старается пошевелиться, но не может. Мы наблюдаем, как нарастает его страх, а вместе с ним — наша радость. Это то, чем мы являемся. Это то, для чего мы предназначены — дирижировать балетом тьмы и боли, и наше выступление назначено на эту ночь.
Музыка становится громче, и мы ведем его туда, где начинается очаровательный танец Конца Всего. Нам знакомы эти резкие, пахнущие страхом движения, совершаемые под аккомпанемент треска клейкой ленты и испуганных всхлипов. И мой быстрый, острый и уверенный нож танцует под знакомую музыку лунного света, которая становится все громче и громче, пока не гремит финальный аккорд наслаждения, и радость, радость, радость заполняет собой наш мир.
Перед самым концом мы ненадолго останавливаемся. Сомнение крошечной отвратительной рептилией пробралось в сияние нашей радости и расположилось там, искажая чистый свет удовольствия. Мы опустили взгляд на него, все еще дергающегося с выпученными от ужаса глазами. От ужаса, вызванного тем, что уже произошло, и уверенностью в том, что его ожидает нечто еще более ужасное.
«Мы почти закончили, — слышится шепот из моего подсознания, — не останавливайся сейчас…»
И мы не останавливаемся, мы не можем остановиться. Мы делаем передышку и смотрим на существо, которое дергается под нашим ножом. С ним почти кончено, его дыхание слабеет, но он все еще пытается вырваться из пут, и последний пузырек надежды пытается прорваться к поверхности сквозь темную толщу ужаса и боли. Мы должны кое-что выяснить, прежде чем заставим этот пузырек лопнуть. Нужна одна маленькая деталь, чтобы картина получила свое завершение и мы могли открыть шлюзы, позволив нашему наслаждению затопить все.
— Ну, Виктор, — наше ледяное шипение наполнено счастьем, — как на вкус была Тайлер Спанос?
Мы отдираем ленту с его губ, но он слишком глубоко погружен в настоящую боль, чтобы заметить это. Он глубоко и медленно дышит, и его глаза встречаются с моими.
— Так какова она была на вкус? — произносим мы, и он кивает, принимая то, что должно случиться.
— Прекрасно, — говорит он хрипло, зная, что у него осталось время только на правду, — лучше, чем все остальные. Это было… прикольно.
Он закрывает глаза, и когда открывает вновь, я вижу на их поверхности крохотную надежду.
— Теперь вы меня отпустите? — спрашивает он хриплым голосом с интонациями потерянного мальчика, хотя прекрасно знает, какого ответа следует ожидать.
Вокруг нас раздается хлопанье крыльев, и мы практически не слышим самих себя, когда произносим:
— Да. Можешь уходить.
Мы оставили «мустанг» Чапина позади магазина «Счастливая семерка» за три четверти мили от дома. Ключ зажигания остался в замке — вряд ли кто-то сумеет удержаться от искушения, и скорее всего уже к утру машина будет перекрашена и погружена на борт судна, идущего в Южную Америку. Нам пришлось действовать чуть поспешнее, чем хотелось бы, но теперь мы чувствовали себя куда лучше, и я даже напевал какую-то песенку, когда выбирался из своей верной машины и шел к дому.
![Александра Гейл - Дневник любовницы мафии [СИ]](/uploads/posts/books/4209/4209.jpg)