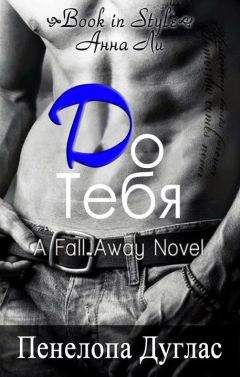Андрей Измайлов - Трюкач
Досадно, что мулатка не знает, не видит. И… Ломакин не знает, не видит. Он последовал за ней. Правда не столь изящно – и ногу кому-то отдавил, и шипения вслед наслушался. Зато успел.
Вышел из зала – посреди холла она. И никого. Запоздавшие гости исчезли.
Это для нее они исчезли. Ломакин моментально сообразил куда они исчезли. Церберши тоже нет, значит провожает дорогих гостей куда надо. А куда надо?
– Помочь? – уже играя игру, спросил Ломакин.
– Чем? – чуть улыбнулась она.
– Их проводили в директорский зал. Могу проводить.
Директорский – просто небольшой зальчик с двумя телевизорами, на экраны которых подается изображение то же самое, что и на всю аудиторию. То ли эдакий кабинет только для избранных, то ли вариант плебеи пускай на кухне жрут!
Дорогим гостям церберша внушила: избранные, вы, избранные. Экранчик, само собой, не такой большой, звук, само собой, не такой громкий-объемный, цвет, само собой, не такой яркий-контрастный. Зато – в креслах, зато можете курить (вообще-то не рекомендуется, но вам можно), зато обмен впечатлениями – да ради бога, хоть в полный голос.
Ах, вам не столько кино, сколько отыскать даму? Где же вы в темноте ее найдете. Вот кончится, тогда… Скоро, скоро. Еще час десять – и конец.
Избранные снизошли до согласия. Только нельзя ли тогда что-нибудь сюда же… вот, это вам… принесите.
Вообще-то не рекомендуется, но вам можно.
Дорогие-щедрые гости! Очень щедрые. Ломакин с дамой почти наткнулись на цербершу, которая, шевеля купюрами, шевеля губами, отсчитывала – сколько она в результате поимела. Нет, она честно принесет коньяк (коньяк они попросили) и орешков (орешков они попросили) и честно отдаст сдачу с мелочью (непременно с мелочью – мол, во как, до последнего рубля!), но пятерочку (в тысячах, разумеется), заранее усует к себе – эти буржуи новоявленные совершенно счет деньгам не знают!
– А вы куда? – от неожиданного испуга почти крикнула церберша. Она как раз усовывала пятерочку: себе – тут вдруг на нее и наткнулись. – Там занято! A-а… Это вы?
– Это я, нейтрально отметился Ломакин, НЕ ЗАМЕЧАЯ краешек недосунутой пятерки. – Наши там?
– Там, там! радостно подтвердила церберша. – Послали… и виновато предъявляя остаточные купюры.
– Тогда и на нашу долю тоже!
– Ломакин всучил церберше десятку и, по-прежнему НЕ ЗАМЕЧАЯ, повлек даму мимо и дальше.
Не заметить взгляд церберши в адрес мулатки – только слепой не заметил бы. У-у, мол, блядь подколодная, черная, разодетая, еще и чем-то недовольная, к своим кобелям идешь, они на тебя денег не жалеют! А тут околачивайся при, так сказать, храме искусств, до пенсии – пять лет, и всегда держи себя в форме, а оклад все тот же, мизерный. Поди попробуй не превратиться в цербершу!
Ломакин НЕ ЗАМЕТИЛ, тем самым молча посоветовав даме НЕ ЗАМЕЧАТЬ. Каждому свое.
Он предвкушал: так или иначе, но в директорский зал войдет первым и – ПРИВЕДЕТ С СОБОИ даму. Кто бы там в кабинете ни был, в каких бы отношениях с дамой этот кто бы там ни был. Быстрота и натиск.
Зря предвкушал. За два-три шага до кабинета она мягко отстранила Ломакина и спросила глазами: это там?
Там.
Спасибо. Извините. Я сама.
Здра-а-асьте, пожалуйста!
До свида-а-анья, спасибо!
Он запнулся на месте. Не из послушания, а из самолюбия. Неровен час – нарвешься на: Чего увязался?!
Она открыла дверь, вглядываясь в полумрак. – Плясали зеленоватые телевизионные тени.
– Тоня… Пришла Тоня…
Итак, даму-мулатку зовут Тоня – Антонина.
Итак, «кто бы там» непроизвольно обозначил свое к ней отношение. Голос был такой. Не барственный, но хозяйский. И… как бы это… близкий, очень близкий.
Другой вопрос – на черта даме эта близость? Потому что она резко обратилась к кому-то еще:
– Так! Зачем, вы его привели?! Я же поставила условие!
– Антони-и-ина! – умиротворяюще протянул кто-то еще.
– Вы присаживайтесь, присаживайтесь! – елейно пригласил, некто третий.
– А ты здесь вовсе лишний, понятно?! – еще резче объявила она.
– Понятно, понятно. Но вы все-таки присаживайтесь… – елейно повторил третий лишний.
Ломакин готов был сделать шаг вперед и остудить пыл или накалить обстановку. Лишь бы не пребывать в эдакой пограничности – ни туда, ни сюда.
Дверь захлопнулась. Не туда тебе, Ломакин, не туда…
А куда?
Сюда. Бесцельно профланировал мимо бара в укромном уголке холла, отнаблюдал суету с барменшей.
Дернулся в банкетный зальчик – не отозвались, бряцали раскладываемыми вилками-ножами, звякали бокалами-рюмками-фужерами, готовились к постпремьерной пьянке. Большая обжорка (иначе: кафе) занавесилась желто-прокуренными «маркизами», притушила огни – в ожидании финальных кадров и наплыва творческих масс, не допущенных к банкетному узкому кругу.
Ожидание. Гулкий холл. Безлюдье. Чем бы заняться? Не в зал же возвращаться, будоража портьеру, обращая внимание досужих зрителей: за дамой ринулся, вернулся один, ге-ге, шел в комнату, попал в другую. Ломакин хмыкнул, ощутив отроческое, давно позабытое: выйдет она наконец-то из подъезда?! сколько ему еще мозолить глаза соседским окнам? Забавно…
Мозолить глаза здесь некому, но ощущение все равно дурацкое. Чем бы заняться? Он сосредоточенно принялся рассматривать временную картинную галерею под кодовым знаком «Причуды гения» (мол, наш замечательный режиссер-актер-оператор многогранен, он талантлив во всем, за что берется, вот взялся за кисть с маслом – любуйтесь!). Любовался от нечего делать. Будто читал медицинские методички-рекомендации в коридоре поликлиники – скучно, противно, идиотизм, но… чем-то надо заняться в ожидании…
Дождался. Дверной хлопок, цокот каблуков, говорок – ничего подобного, сколько бы ни дожидался. Просто над ухом деликатно прозвучало:
– Откуда здесь можно позвонить? – и пахнуло мятой.
Антонина! Как ей удалось подкрасться? Ломакин- то неосознанно гордился способностью ловить-определять каждый шорох.
– В этом что-то есть… – позорно изрек он тоном знатока, оправдывая собственную расплошность, мол, весь был поглощен созерцанием прекрасного.
– Да? – блюдя правила хорошего тона, усомнилась Антонина.
Неудачный объект созерцания выбрал Ломакин: картинка-картиночка первобытно голый монстр со свинячей рожей, женским бюстом от «Плейбоя», вздыбленным фаллосом и когтистыми птичьими лапками, естественно, на фоне гипертрофированного зарева. Гибрид Босха, Вальехо и ученичества автора. Поясняющая табличка: «Эскиз к «Признанию познания. 1994, март». Эка мы расхрабрились, сбросили Путы условностей!
– Да, вы правы… – позорно открестился Ломакин. – В этом ничего нет! Э-э, что вы спросили?
– Откуда здесь можно позвонить? – и опять пахнуло мятой. «Стиморол»! Неповторимый, устойчивый вкус!
– Сейчас! – он тормознул цербершу, семенящую с подносом. Опять чуть было не наткнулись. Судьба… – Ключик, будьте добры. Нам позвонить. Конфиденциально.
Церберша готовно отослала его взглядом к доске ключами:
– Снимите от «Администратора». Только, пожалуйста, недолго. Кино кончится – мне попадет… и засеменила дальше, этажом выше – дорогие гости заждались, коньяк, орешки…
Они вошли к «Администратору». Замок защелкнулся.
Позвонить она так и не позвонила.
ЭТОГО можно не снимать. Внезапное замыкание. И очень короткое. Хоть отсылай любопытствующих к Бертолуччи, к «Последнему танго». Да уж, сплясали…
– Спасибо… – сказала она мельком, будто случайному кавалеру, оказавшемуся кстати и щелкнувшему зажигалкой перед рассеянной сигареткой…
И это – после всего. После, бурного, буйного, спонтанного, задыхающегося, обильного.
Привела себя в порядок. Присоветовала:
– Приведи себя в порядок.
Привел. Криво ухмыляясь. Понимая, сколь скотски выглядит кривая ухмылка, но – не согнать. Идиотизм! Эка мы расхрабрились, сбросили путы условностей!
А кривая ухмылка – защитная реакция. Если он и в самом деле сорвался с катушек, потерял контроль, то она будто – назло. Кому-то назло. Уж не тому ли близкому «кому бы там»?
– Ну что? Заморили червячка? интимно пошутила она. – Пошли, картинки посмотрим. Я еще толком не рассмотрела.
Получалось, по намеку, Ломакин вдохновился разглядывать голых монстров-причуд и набросился. Но получилось не обидно, свойски, домашне. Соглашайся с версией, Ломакин, иначе унизишь даму невысказанной догадкой: не от внезапного замыкания ей приспичило конфиденциально позвонить, а назло кому-то. И унижает подобная догадка не кавалера, но даму. Сколь бы ни пестовали миф о кошке, гуляющей самой по себе. Не по себе. Если – назло.
Если назло, то… как-то не по себе. Зависимость и подчиненность. Она независима. Договорились, Ломакин?
Договорились.
– Звонить-то будем? – сообщнически спросил он.