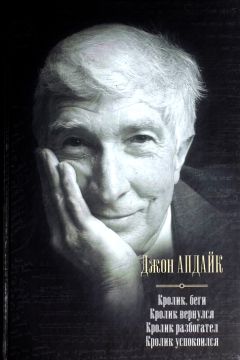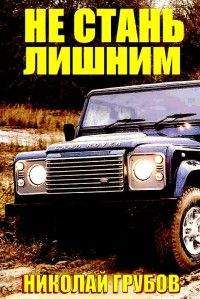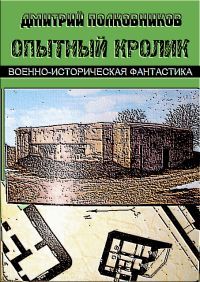Джорджо Фалетти - Нарисованная смерть (Глаза не лгут никогда)
Выждав немного, он подозвал официанта и расплатился. Парень по выражению его лица понял: за обедом между ними что-то изменилось. Он поблагодарил за чаевые, но никаких дружеских шуток больше не отпускал.
Джордан ступил на трап, ища взглядом Лизу. В нескольких шагах стоял его «дукати», а рядом он заметил ее фигуру – лицо было спрятано под шлемом. Он, как и прежде, затосковал по ее улыбке, хотя твердо знал, что сейчас она не улыбается. Ни ему, ни кому-либо другому.
Не говоря ни слова, Джордан тоже укрылся за шлемом, включил зажигание и стал ждать, когда усядется его пассажирка.
По легкому движению сзади он понял, что она устроилась, и поехал, быстро набирая скорость. Они пустились в молчаливый обратный путь, предоставив ветру говорить слова, на которые у них не хватило духу. А повеса ветер рассеивал их, как запахи и облака.
25
Морин Мартини проснулась от сильного жжения в глазах. Она тихонько провела пальцами по бинтам, скрепленным пластырями, как будто это легкое движение могло снять дискомфорт. Ее предупреждали, что это неизбежно, но ей все равно хотелось унять этот противный муравейник.
После операции микроскопические надрезы затянулись так быстро, что сам профессор Роско, проводивший пересадку, удивился. Такая быстрая реабилитация улучшила общий настрой, и вот уже настал день решающей проверки. Ровно в одиннадцать ей снимут бинты, и она останется наедине с будущим.
С будущим, которое покажет, суждено ли ей всю оставшуюся жизнь передвигаться на ощупь.
Само собой разумеется, ночью она почти не спала. Темнота, простыни, бег с препятствиями от надежды к отчаянью, постоянная смена настроений, метание между «быть может, да» и «лучше бы нет». Сон то и дело пытался восстановить нормальные пропорции и хотя бы на несколько часов приблизить ее к остальному миру, но это плохо ему удавалось.
В какой-то момент она все-таки провалилась в тревожное забытье, и ей приснился сон, поразивший ее необычайной четкостью образов, хотя и несколько фрагментарных, потому не все их удалось вспомнить после пробуждения.
Она якобы очутилась в детской. Это не ее детская в Риме, потому что мебель другая, а из окна видны деревья и берег реки. Во сне она сидит за столом и видит свою руку, которая что-то рисует. На рисунке мужчина и женщина. Женщина опирается на стол, мужчина стоит позади нее. Несмотря на то, что рисунок детский, по нему нетрудно понять, чем они занимаются. Вдруг распахивается дверь слева, и в комнату входит усатый человек. Она с гордостью показывает ему рисунок. Человек смотрит и начинает дико возмущаться. Слов она не слышит, видно лишь, как шевелятся губы и как лицо его багровеет от гнева, когда он размахивает листком у нее перед глазами. Затем он рвет рисунок в мелкие клочья, хватает ее за руку и тащит в чулан. Морин хорошо запомнила черты его лица: они маячили перед глазами, даже когда его поглотила темнота, после того как закрылась дверь чулана.
Морин проснулась вся в поту и в такой же тьме.
Она в манхэттенской квартире матери, на последнем этаже темного кирпичного здания, на Парк-авеню, 80, неподалеку от Центрального вокзала. Она предпочла бы остановиться в квартире отца, в центре города, но было ясно, что в таком состоянии без женской помощи ей не обойтись.
Поэтому после операции она, скрепя сердце, согласилась поселиться в доме Мэри Энн Левалье. Несмотря на то, что мать явно переживала за нее, Морин решила не обольщаться насчет их отношений, сводившихся к немногим дежурным словам. Высокомерие, помноженное на нетерпимость. Безусловно, между ними существовала атавистическая, генетическая связь, но дружбе в ней не было места.
Сквозь двойные стекла до нее долетал приглушенный шум Нью-Йорка. Этот город она знала почти так же хорошо, как Рим. В этих двух городах, среди миллионов людей она однажды встретила человека, которому наконец-то удалось ее узнать и понять. Она всю жизнь находилась на перепутье двух миров, но не принадлежала ни одному из них. Посредником для нее мог стать тот единственный, кто испытывал такие же чувства. Тот, кого музыка возносила в небо, но он был вынужден оставаться на земле. Тот, кто раскрыл ей обманы тьмы и стал в этой тьме непреложной истиной.
Один-единственный на свете.
А теперь…
С тех пор, как она очнулась в клинике «Джемелли» после всего пережитого, жизнь ее стала быстрой чередой одноцветных ощущений. Темнота, застлавшая ей глаза вместе с бинтами, вынудила остальные органы чувств острее воспринимать все, что делается вокруг. Перелет из Рима в Нью-Йорк тоже был серией обрывочных ощущений, без той связующей нити, которую дают лишь зрительные образы, составляя костяк наших воспоминаний.
Только теперь, когда лишилась зрения, Морин осознала его определяющую роль в жизни. Перемещения стали ревом моторов и турбин самолета, шумом и запахами улиц. А люди теперь тоже состояли из голосов и запахов. Иногда – из телесных контактов, благодаря которым она все еще чувствовала себя человеческим существом. В кромешной, безграничной тьме по-прежнему раскачивалась, посверкивая, серьга Арбена Галани, и окровавленное тело Коннора медленно падало в пыль.
И все это время Морин мысленно ни на минуту не прекращала выть.
Голос хирурга, профессора Уильяма Роско, был лишь еще одним звуком, временно наложившимся на ее беззвучный вой. Низкий, приятный, внушающий уверенность, с мягким акцентом, который она не смогла определить, но в нем не было ничего похожего на сухое нью-йоркское стаккато. Она чувствовала его присутствие у своей кровати, вдыхая запахи крахмального халата и чистого бритья.
– Мисс Мартини, операция относительно проста, и послеоперационный период обычно не бывает длительным. Мы введем вам новую роговицу и при помощи стволовых клеток попытаемся избежать возможного отторжения, связанного с вашим генетическим своеобразием. Надеюсь, уже через несколько дней мы сможем снять повязку, а в том, что вы будете видеть, я почти уверен. Правда, впоследствии вам придется перенести еще две легкие операции по введению стволовых клеток, чтобы окончательно укрепить новую роговицу. После этой операции вам надо будет какое-то время носить темные очки, но это лишь придаст загадочность вашему очарованию. Я все понятно изложил, или вам нужны какие-либо пояснения?
– Нет, все понятно.
– Не волнуйтесь. Как я уже сказал, через неделю вы будете видеть.
Морин ответила оптимизмом на оптимизм:
– Конечно, буду.
Конечно, буду. Не потому что хочу, а потому что обязана. Мне во что бы то ни стало надо увидеть лицо под дулом пистолета…
Операция стала для нее просто скрипом каталки, запахом антисептика, голосами в операционной, залитой светом (его она ощущала как тепло), уколом иглы в вену и рыхлым небытием. Анестезия означала лишь переход из тьмы в еще более глубокую тьму, в которой можно было позволить себе роскошь ни о чем не думать.
Из наркоза ее вывели голоса и руки отца и матери. А также сдержанно-эксклюзивный материнский запах.
Морин представила себе, как мать, элегантная, холеная, сидит на краю кровати. Смесь аристократизма и самоконтроля. Прежде она бы назвала это холодностью, но в нынешних обстоятельствах можно быть к ней поснисходительней. И все же Морин хотелось, чтобы материнские чувства хотя бы раз нарушили безупречную симметрию складок ее фуляра.
Она не стала включать приемник, который ей оставили на тумбочке, чтобы не было скучно. Во-первых, чтобы мать и горничная не знали, что она проснулась, а во-вторых, и главным образом, чтоб ненароком не попасть на программу, где какой-нибудь диджей воспевает музыку и жизнь Коннора Слейва. Она слышала, что в Карнеги-Холле собираются устроить грандиозное действо – создать с помощью компьютерной графики трехмерную фигуру, виртуальный образ Коннора, который будет двигаться по сцене в такт с музыкантами из плоти и крови.
На такое истязание Морин никогда бы не согласилась.
Увидеть на сцене его призрачный силуэт, марионетку, двигающуюся по воле машины, и в то же время испытать непреодолимое желание выбежать на сцену, обнять его, запустить руки в его кудри, заранее зная, что обнимет один только воздух.
Жжение в глазах прошло, и Морин захотела в туалет. Естественная человеческая потребность позволила ощутить себя живой. Она даже не подумала звать мать и говорливую горничную Эстреллу с ее латиноамериканским акцентом и постоянными вкраплениями испанских слов.
Стремление к независимости – еще одно свидетельство жизни. Она помнила эту комнату еще с тех пор, когда ей не приходилось во всем полагаться на чутье летучей мыши.
Она встала с постели и, вытянув вперед руки, легкими, сторожкими шагами направилась в ванную. На ощупь обогнула столик и кресло, шаря пальцами по гладкой поверхности стены, наткнулась на лакированную дверь. Нащупала ручку и повернула ее. Толкнула дверь и вошла. Один неверный шаг – и внезапно…