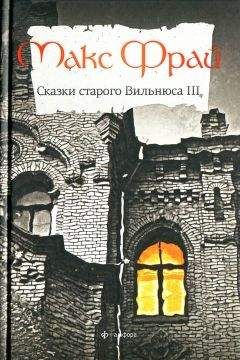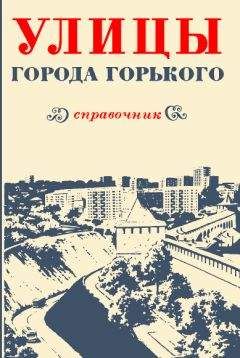Энтони О'Нил - Фонарщик
— Да, — признал Гроувс, как бы разделяя их веселье. — А молодая девушка с короткими темными волосами — худенькая такая, обычно одета в черное? Может, кто-то, подходящий под это описание, показался вам необычным?
Фонарщики пожали плечами.
— Она могла быть не одна. С клиентом.
Ничего.
— Кто-нибудь знает такую девушку? Может, кто-то из вас дал ей повод для расстройства или вывел ее из себя?
Ни слова. Гроувс засопел.
— Конечно, вы читали об убитых. Может, кто-то из вас имел на них зуб? Желал им зла? Или хотел поквитаться с ними с помощью темной силы?
Последовало коллективное шевеление бровями — до светлячков дошло, что они сами оказались под подозрением, хотя не знали точно, как себя вести.
— Тогда все, у меня больше нет вопросов, — закончил Гроувс. — Но вас могут вызвать еще, пока не закончится следствие по этому отвратительному делу. Я прошу вас быть бдительными и внимательно посматривать кругом, потому что никогда не знаешь, что может попасться на глаза. И не зарекайтесь. Кто знает, в одну прекрасную ночь могут наброситься на вас, и потом ваши останки отвезут в морг, подумайте об этом. Настали мрачные дни, джентльмены, и я рекомендую вам быть осторожными. И если вы что-то скрываете, что-то прячете под своими кепками, будьте уверены, инспектор Гроувс обнаружит это что-то, как клеща на собаке, и вырежет тупым ножом.
Он еще раз пронзил их взглядом прищуренных глаз, но большинство уставились в пол с обычным свойственным им придурковатым видом, как будто они терпели такие выволочки каждый божий день. Что, учитывая холерический нрав Клейпоула, было весьма вероятно.
«Так я и думал, ничем они мне не помогли, я не увидел ни в одном из них зверской злобы. Прингл сообщил, что, пока я говорил, никто не затрясся, не побледнел и не разозлился, и я ушел в убеждении, что эта Эвелина не имела никаких оснований клеветать на фонарщиков, они ничего не знают об убийствах, и единственный известный им черт — это янки».
Глава 14
Канэван нырнул в Старый город после тяжелых ночных разговоров у трескучего камина Макнайта. Новые теории профессора рябили пустотами, были весьма эксцентричны — профессор сам признавал это — и такие чудные, что он не осмеливался донести их до ушей даже близких друзей. Но в свою защиту он заметил, что бывают в истории критические моменты, когда события и их экстраполяция сливаются и образуют такую грозовую тучу, что теории, раньше казавшиеся невероятными, взрываются откровением, а люди, почитавшиеся за безумцев, принимают ореол пророков. Нет, поспешил он прибавить, не то чтобы он примеряет на себя какую-нибудь трансцендентную мантию. Его вынесет сама реальность, сказал он, если еще существует способная на это реальность.
Они расстались, как всегда, тепло, но Канэвана тревожил энтузиазм, с которым профессор излагал свои взрывные теории, — он был похож на неосторожного мальчишку, рискующего споткнуться в заброшенном форте возле бочки с порохом. Он также не был уверен, что при всех неоднократных заверениях профессор действительно больше всего радел о безопасности Эвелины. Иногда и впрямь можно было подумать, что она для него просто искалеченный пациент, которого нужно внимательно осмотреть и продемонстрировать с церемониальной бесчувственностью, свойственной докторам, преподающим в Королевском госпитале.
— Не забывайте, что мы говорим о молодой женщине, а не о крокодиле, — на определенной стадии строго сказал Канэван.
— Вы об Эвелине? Эта женщина не может не нравиться, — согласился Макнайт. — И я никогда не говорил, что она в чем-то виновата.
— Но ваша теория основывается целиком на ее вине.
— Моя теория выше подобных традиционных представлений.
— Да, но вы должны признать: мы еще не достигли стадии, когда подобными теориями руководствуется суд, как бы глубоки и восхитительны они ни были.
Канэвану это было так важно, что он стиснул кулаки, надеясь только, что профессор не заметит.
Костяшки у него на руках еще были белыми, мышцы все так же напряжены, он не мог успокоиться и, несмотря на тяжелый холод, от которого все вокруг заиндевело, возвращался домой самым причудливым путем, защищаясь от мороза фразой, подобранной им этим вечером для отопления апартаментов своего сердца: «Эта женщина не может не нравиться».
Она, разумеется, покорила его тут же. То странное чувство узнавания, с которым он переступил порог ее комнаты, ее взгляды, которые она бросала на него в поисках поддержки, — Канэван чувствовал, что находился во власти более мощных, не просто рациональных сил. Это не было в точности романтической любовью, во всяком случае, в том виде, в каком ее обычно себе представляют. Эвелина не была неземной красоты — не Эмилия Харкинс, — и его чувства не были загажены безумием похоти. Скорее можно было говорить о всепоглощающем чувстве понимания и полной уверенности в том, что тут трагедия в сочетании с потребностью защитить и укрыть ее, которая в Канэване была куда сильнее плотских желаний. Его эти эмоции, как всегда, измучили, и он боялся, что у него недостанет сил достойно их выдержать и одной его физической силы для этого не хватит. А то, что он предназначен защитить Эвелину, практически не вызывало у него сомнений: он чувствовал это сердцем так же ясно, как видел глазами. И если для того, чтобы оградить ее от немыслимых обвинений — первая и важнейшая его задача, — Канэвану придется скрестить шпаги с добрым другом профессором Макнайтом… что ж, так тому и быть.
— Она что-то скрывает, — объявил Макнайт, вышагивая перед пылающим камином. — Вы, конечно, заметили туманность ее ответов, когда речь зашла об отъезде из приюта. Можно даже сказать, она была демонстративно уклончива. Как будто медленно разматывала повязку и выставляла рану на обозрение. И я рискну утверждать, что именно эта рана является ключом, который может отпереть замок ее бессознательного.
— Надо думать, вы имеете в виду какую-нибудь жестокость.
— А вы считаете это невероятным?
Канэван помолчал.
— Что я считаю невероятным, — сказал он, — так это способность молодой женщины так жестоко отомстить, далее в воображении.
— Но ее собственное признание широко известно.
— Она признала ночные кошмары, что не одно и то же.
— Ах да, конечно, — радостно воскликнул Макнайт, словно наконец достигнув цели, и бросил на друга недобрый взгляд. — Вы ничего не имеете против дедуктивного силлогизма? — спросил он, будто предлагая чашку чаю.
Канэван почему-то испугался.
— Я всегда готов к дедуктивным силлогизмам, — отрезал он.
Макнайт улыбнулся.
— Что ж, чудесно, — сказал профессор и глубоко вздохнул, как бы извлекая вдохновение из воздуха. — Больший член: сны абсолютно субъективны, природа снов такова, что их может воспринимать только один человек. Меньший член: все, что нельзя воспринимать объективно — то есть более чем одним сознанием, — не есть реально. Заключение: сны не суть реальны. Что скажете?
— Вполне солидно, — согласился Канэван. — Хотя боюсь, вы воздвигли его только для того, чтобы разрушить.
— Мудрый мальчик. Ибо теперь я спрашиваю вас: выдержан ли меньший член? Эвелина, как вы помните, уверяла, что во сне является простым наблюдателем, видит все глазами Бога. Она видит во сне то, что другие в состоянии бодрствования имеют возможность наблюдать в тот самый момент, когда она спит. Ее единственная задача — с поразительной живостью и точностью воспроизвести улицы в воображении. Вокзал Уэверли, например, был воссоздан начиная от самой высокой балки вплоть до крошечного пятнышка сажи. Так что не исключено, Эвелина является человеком, который видит сны не субъективно, а объективно, — пожал плечами Макнайт. — А если это так, то силлогизм хромает. Поскольку тогда либо сны не вполне субъективны, либо сны Эвелины вообще не сны.
Канэван нахмурился:
— И каково же ваше заключение?
— Что ж, я считаю невозможным утверждать, что люди вообще, не говоря уже об Эвелине Тодд, не видят никаких снов. Я также считаю, что любой обычный сон не может воздействовать на объективную реальность. Но сны Эвелины, как мы уже заметили, отнюдь не обычны. Между ними и реальностью практически нет ощутимой разницы. И допущение этого позволяет мне сформулировать крайне вызывающий логический силлогизм.
— Я затаил дыхание.
— Больший член очень прост, — сказал Макнайт. — Сны Эвелины не отличаются от реальности. Вы можете оспаривать степень, если угодно, но прошу вас принять это пока как данность. Меньший же член я бы хотел сформулировать спокойно: воображение Эвелины способно искажать ее сны. Это, конечно, преуменьшение и относится к любому человеку точно так же, как и к Эвелине Тодд. — Он улыбнулся. — А заключение? вывод? точка, к которой неотвратимо ведет нас логика?