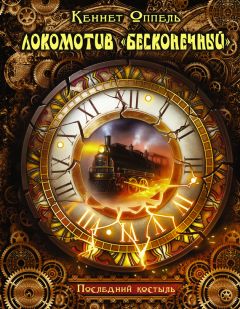Игорь Резун - Мечи свою молнию даже в смерть
Сам Дмитрий Илларионович происходил из старой городковской профессорской семьи. Папа приехал сюда вместе с Лаврентьевым, Христиановичем и Соболевым, будучи еще вихрастым аспирантом, и в итоге за труды получил четырехкомнатную в старом доме на Морском проспекте. В «хрущевке». Нет, не путайте, – не в том убогом строении проекта Н-55, которыми покрыли почти всю страну от Калининграда до Владивостока, а в первом, проекта Н-35, где потолки уходили ввысь, как своды храма, и фасад был изукрашен вафельной лепниной, а опоры балконов – толсты, как икры амуров. В этой квартире всегда царила атмосфера сытого, либерального, умеренного диссидентства, здесь часто собирались гости – и приезжие, и местные. Илларион Теодорович мог часами рассказывать об истории древних монашеских орденов, о тайнах розенкрейцеров, а его супруга Виолетта Иосифовна божественно заваривала кофе и готовила сельдь под шубой – под водочку, кристальную водочку новомосковского «ЛВЗ».
Тут пахло табаком «Золотое руно», армянским коньячком. Тут гость мог неожиданно протянуть руку и замереть в кресле, водя смычком по извлеченной из футляра скрипке, и гости тоже разом вдохновенно немели, внимая этим звукам. Здесь часто кого-нибудь цитировали и негромко смеялись. Как позже скажет Губерман: «Люблю бывать в домах разврата, где либералы сладко кормят! Где между водкой и салатом журчит ручей гражданской скорби». Этот ручей тек свободно, и мальчик, которого по привычке интеллигентов никогда не гнали от стола в детскую, впитывал зерна сомнений, впрочем, так никогда и не проросшие в чертополох открытого бунта.
Он рано познал искус женского тела, ибо из загранкомандировок друзья привозили красочные журналы «Плейбой», и знал уже в четвертом классе, что находится в «золотом сечении» противоположного пола. А как-то раз он обнаружил в отцовском секретере пачку фото, сделанных импортным фотоаппаратом: голая Виолетта играет на пианино, голая Виолетта стоит задумчиво у окна, голая Виолетта на диване… Мраморной бледности живот матери и черную ее тайну перечеркивал суставчатый стебель гвоздики, и ягодицы ее были тоже белы, бледны, худы. Это было небольшим шоком для него, хотя никто никогда об этом не узнал. На всю жизнь он сохранил немного болезненную тягу к таким вот белым, сахарным ягодицам, к худым ступням с резко очерченными фалангами пальцев – таким, какие были на тех фото. Он искал их у сокурсниц, а потом – у знакомых дев. И не находил! Не нужна ему была ядреная упругость – нет. Он всю жизнь алкал вкуса нежного, робкого распутства, начинающегося там, где подходит к своему пику стыдливость.
Термометр всегда выглядел молодо, и было ему тридцать восемь, а давали от силы чуть больше тридцати. Он окончил школу в самый канун апрельского пленума ЦК КПСС, на котором человек с родимым пятном на лбу резко повернул государственный корабль, да и положил его на борт, в полный оверкиль. Затем юноша поступил на истфак НГУ благодаря одному телефонному звонку. Иначе и быть не могло, ведь Илларион Теодорович заведовал в институте истории кафедрой марксизма-ленинизма, который, как известно, являлся первоосновой всех существующих на свете наук, а Виолетта Иосифовна – отделом научной литературы в областной библиотеке. Однако историю Термометр знал; этого было не отнять. И, как любой знающий историю человек, хорошо понимал, что какое бы ни было время на дворе: Ивана ли Грозного, Петра ли, Ленина или Сталина, – но тот, кто хочет любить, всегда найдет того, кого можно любить долго и разнообразно. А остальное все тщета!
Проучился Термометр три курса. А потом случилась перестройка. И все изменилось. Словно на Пасху яйцо, шарахнули скорлупку уютной квартиры о каменный лоб действительности, да скорлупа эта раскололась. Играли новую музыку, по улицам ходили новые люди. Вывески заговорили на английском, нещадно коверкая язык Шекспира. Давешние «Плейбои» оказались детскими раскрасками по сравнению с тем, что продавалось совершенно открыто в киоске через дорогу. Сначала выяснилось, что сибирские мужики, охотно дравшие бороду на крыльце съезжей избы вороватым воеводам, не думали о классовой борьбе, а всего лишь желали вернуть зажатые воеводой гроши; потом обнаружили, что и марксизм-ленинизм не единственно верен и правилен. Иллариона Вышегородского сначала прокатили на получение звания академика, закидав «черными шарами», а потом сместили на должность завархива и, наконец, отбросив всякие церемонии, отправили на пенсию. Квартира опустела. Хороший кофе сначала исчез, потом подорожал. Скрипка пылилась в кладовке.
И девы стали другими. Теперь, чтобы уложить их в постель, мало было рассуждать о Фрейде или рассказывать об обряде посвящения у кармелиток. Требовались обыкновенные шуршащие бумажки, на которых от сезона к сезону прибавлялось нулей. Только вот самих бумажек в карманах не прибавлялось! С третьего курса Дмитрий внезапно занервничал. Он бросил истфак и рванул в Одессу, где в мединституте работал его дальний родственник. Таким образом, парень устроился на второй курс мединститута – на гинекологический, дабы остаток жизни бесплатно смотреть на то, чего он вожделел с детства. Но после обморока и глубокой депрессии на первом же занятии в анатомичке и эту учебу он забросил.
И пошло носить Термометра по свету. Он работал счетоводом в Николаеве, курьером в Харькове; некоторое время продавал какие-то ваучеры, немного заработал и разорился тут же; занимался бизнес-консалтингом и едва был не прибит разъяренными фирмачами… Так прошло десять лет. Он вернулся в Академгородок. Но не вернулся к прошлому.
Мать сгорела от рака во время его странствий. Отец бродил по пустой квартире, заговаривался и коллекционировал тараканов, рассаживая их в стеклянные баночки. Дмитрий быстро спровадил его в дом престарелых, где-то в поселке Барышево, за городом, квартиру тут же сдал какой-то фирме, которая, в свою очередь, сдавала ее всем страждущим по часам, и зажил спокойной жизнью на ежемесячную арендную плату, большую, чем средняя зарплата в Городке, но недостаточную для роскошества.
С этих пор он одевался не по-босяцки, с небрежностью разочарованного в жизни интеллектуала. Утром шел под шатер кафе, брал пару банок холодного пива, рассеянно беседовал с местными одухотворенными алкашами, изрекая невнятные, но красивые сентенции, и зорким взглядом, как радар, прошаривал окружающее пространство, отмечая мало-мальски ценные для флирта объекты. Потом, если таковых не находилось, шел дремать в снятую в одной из общаг для аспирантов однокомнатную квартирку. Вечером, в зависимости от ситуации, вел новую пассию в это же кафе и заканчивал свой день на ее территории, ибо собственная холостяцкая берлога казалась ему ужасно неэстетичной для тонкого секса.
А когда ночь не была занята, то Термометр садился за старенький ноутбук и строчил очередной рассказ для одного из порносайтов – этим он занимался уже два года. За миазмы бурной эротики, в которых купался автор, немыслимо приукрашивая свои похождения, платили тоже, конечно, мало; но – увы, это было все, чем он мог зарабатывать в новом мире, где снова ценился диплом или, на худой конец, практический опыт в какой-то отдельной сфере. Зато такая ситуация давала превосходную возможность компенсировать свои весьма скромные навыки в постели завораживающими и щекочущими либидо рассказами о разных тайнах сексуальной истории мира: с детства Термометр знал, что женщины любят ушами, и за годы жизни твердо убедился в этой банальной истине.
* * *…Людочка ела банан, ощущая, как его слегка приторная, маслянистая мягкость проходит горлом, проваливаясь кашицей в желудок, и одновременно ела глазами этого странного человека. Как чудно говорит… Неужели это Он? Как сидит небрежно, как покачивает этой белой ступней в желтом ременном сандалии какого-то древнеримского образца: покачивает, как женщина, грациозно. Бесхитростность этого движения завораживала. Перед ним стоял пластиковый стакан – не с пошлым пивом, а с чем-то благородно-рубиновым, принявшим в себя и солнце с неба, и блеск из глаз Людочки. Она зубами шевелила во рту последний кусочек банана и мучительно соображала, что бы сказать этому красавцу, мудрому и несомненно искушенному в жизни.
– А вы… вы вино пьете, да? – наконец выдавила она.
Он взмахнул расслабленной рукой с рыжеватыми волосками, впрочем, негустыми.
– Конечно, в лучшие времена я с утра выпивал бокал «Шато де Крийон» или хорошего молдавского… но, о tempora, o mores![10] – как говорили латиняне. За неименьем гербовой пишут на простой, м-да… Позвольте вас угостить? Что будете? Мороженое?
Безошибочным выстрелом он разворотил корму этой нескладной, хоть и серебрянопарусной бригантины, лишив ее на некоторое время возможности сопротивляться.
Людочка только кивнула. Она следила, как серые манжеты опустились на бледные щиколотки – Дмитрий встал, сделал два циркульных шага к стойке со скучающей продавщицей, небрежно ткнул пальцем в морозный кладезь, и перед Людочкой появился пластиковый горшочек с надписью «Только для самых любимых». В четкой направленности этого жеста сомневаться не приходилось.