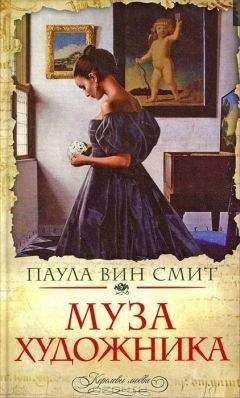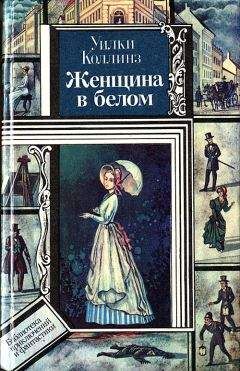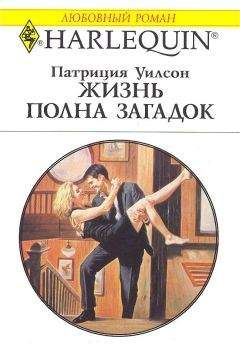Джеймс Уилсон - Игра с тенью
Когда я закончила, Уолтер и мистер Беннетт с аппетитом ели; миссис Беннетт же, проглотив пару кусочков, снова забыла о еде и рассказывала про Тернера и мисс Фелпс. Я пропустила большую часть истории, но суть, кажется, была в споре об отражении света от плывущих предметов, который Тернер попытался разрешить, бросив в воду листок салата. Стоя на берегу, он потерял равновесие и сам упал в воду, отчаянно хлопая руками, как птица крыльями, и пытаясь удержаться, так что мисс Фелпс (тут миссис Беннетт начала хихикать от собственной истории, от чего предостерегают все книги по этикету) воскликнула: «Ах, уточка Тернер!»
Представляя себе эту сцену и отмечая простодушное удовольствие, которое она до сих пор приносила миссис Беннетт, я не могла не подумать о собственном воспитании. Был ли папа (как я его ни любила) прав, когда столь старательно защищал меня от свободного общения с друзьями мужского пола? Неужели мне бы так сильно повредило — глядя на Эмилию Беннетт, в это сложно было поверить — свободное общение на равных с молодыми людьми интеллектуального круга?
Когда мы поели (большая часть порции миссис Беннетт отправилась за борт, когда она складывала тарелки неровной стопкой, будто еда окончательно отчаялась вызвать у нее интерес и от обиды решила отправиться к уткам), она взяла гитару и объявила, что споет нам «старые добрые песни, которые любил Тернер». Она не стала, как делают многие любители, заставлять нас присоединяться к ней угрозами и уговорами, но мы сделали это по собственному желанию. Неважно, знали мы слова или нет, — только камень мог бы остаться равнодушным при виде столь искреннего увлечения и наслаждения. На мгновение, похоже, эти чувства проникли даже в самую глубину души ее мужа и растопили солнечными лучами образовавшийся там лед, потому что через полминуты, к моему удивлению, его неровный баритон тоже присоединился к хору.
Похоже, я никогда раньше не слышала ни одной из этих песен и теперь не вспомню ни одной (кроме общего впечатления, что все они довольно глупые), за исключением припева абсурдной песенки про монашку и гондольера:
Леандр любил свою Геро.
Он служит влюбленным примером.
Но сердце красавицы не суждено,
Увы, покорить гондольеру.[7]
И так далее в таком же духе.
Музыка, вино, солнце и свежий воздух укачали меня, я прилегла, прикрыла глаза и позволила воображению унести меня на сорок лет в прошлое. Та же река, те же песни, тот же голос: несложно было представить (эта мысль внезапно наполнила меня странным острым ощущением, в котором неразрывно смешались радость и томление: оно появилось у меня внутри как комок в горле, оно мешало биться сердцу, как палец, приложенный к качающейся подвеске маятника), что я тоже была в той компании молодежи, которая бродила среди высокой сладкой травы и разговаривала о великом искусстве, когда Эмилия Беннетт была еще девочкой, а деревья Аркадии были покрыты летней зеленью.
Когда мы вернулись на лодочный двор, уже наступили сумерки. Уолтер убрал весла и помог Беннеттам выйти на берег. Он был непривычно молчалив, и я подумала, не утомила ли его прогулка, не расстроила ли по какой-то причине. Но когда я посмотрела на него в луче света из приоткрытой двери сарая, то поняла, что он был просто погружен в размышления: его лицо покраснело, а блестящие глаза блуждали, он был явно возбужден какой-то новой мыслью. Так что меня совсем не удивило, когда он вежливо отклонил приглашение миссис Беннетт на стаканчик вина и легкий ужин и сказал, что нам пора, поскольку он собирался пройтись вдоль реки, и мы не успеем добраться домой до темноты. Она, со своей стороны, наотрез отказалась от его предложения отнести корзинку и коврики обратно в дом, сказав, что не хочет отнимать у нас время, раз мы торопимся, и просто даст шесть пенсов какому-нибудь парню с лодочного двора, чтобы он помог им. Минуты две мы вежливо благодарили друг друга, и вдруг миссис Беннетт пожала Уолтеру руку и (к моему удивлению) поцеловала меня в обе щеки, а потом попрощалась и повела своего мужа в ночь, не прибавив больше ни слова и не оборачиваясь.
Я думала, что Уолтер нарушит молчание, как только мы останемся вдвоем, но он почти ничего не говорил, пока мы не прошли милю-другую и не добрались до небольшой таверны у реки. В окнах светились желтые огни ламп, а деревянный балкон нависал над самой водой на неровных столбах, которые выглядели так, будто вот-вот сдадутся, свалятся в реку и уплывут во Францию. Остановившись у двери, Уолтер отрывисто сказал:
— Съедим чего-нибудь?
Я не ожидала, что его может привлечь такое место (по крайней мере, с тех пор, как Лора получила наследство), но мне кажется, что в тот вечер он планировал остановиться именно здесь или в другом подобном заведении. Когда мы пробирались мимо бара, пахнущего дымом и тиной, и речники, на лицах которых оставили следы погода и выпивка, с любопытством смотрели на нас, мимо крошечной кухни, откуда пыхнуло жаром, как из печки, и наконец — наверх в кофейную комнату, у него был довольный вид человека, жизнь которого идет точно по плану.
— Давай закажем отбивные, — сказал он с заговорщицкой улыбкой, когда мы сели у окна. — Их трудно испортить даже на такой кухне. И портер в честь Тернера. Что скажешь?
Я подумала, поглядев на его раскрасневшиеся щеки и чувствуя их тепло даже через пространство стола, что, если я коснусь его кожи, она отзовется, как барабан или как кожура зрелой дыни. Его так переполняло страстное возбуждение, что оно должно было вырваться наружу в лихорадке слов или буйной пляске — или он ударится о невидимую скалу и взорвется, и все это пропадет напрасно, впитается в бесплодную почву.
— Так что ты думаешь? Как ты думаешь? — спросил он. — Раскин прав?
— В чем?
— В суждении о Тернере. Думаешь, он и правда был страдающим гением?
— Насчет гения я согласна, — сказала я осторожно. — А вот насчет страдающего… А ты сам как думаешь?
Он тряхнул головой, отмахиваясь от вопроса.
— Скажи, — настаивал он, — что он был за человек?
— Ну… — начала я неуверенно (я не хотела сбить его, выразив точку зрения, сильно отличную от его собственной, и оказаться той самой невидимой скалой), — что мы знаем? Он был рожден в бедности; он, возможно, немного эксцентричен, но не больше, чем любой другой человек, полностью посвятивший себя искусству; и он любил Англию, ее природу, берега, людей.
Я вопросительно посмотрела на Уолтера, и он с энтузиазмом кивнул, придавая мне смелости продолжить более уверенно:
— Он был бесцеремонен — тут, наверное, дело в его трудном детстве — и мог иногда показаться резким и даже грубым, но в глубине души, я думаю, он был добросердечен и верен дружбе.
Уолтер снова кивнул, но потом по его лицу словно бы пробежала тень, и он спросил:
— А как насчет морали?
— Морали, — повторила я медленно.
Взгляд Уолтера был так напряжен, что мне пришлось отвести глаза, и мгновение я была слишком сконфужена, чтобы ответить. Потом я сказала:
— Знаешь, Уолтер, я вот думаю, а возможно ли на самом деле быть великим художником и при этом жить в монашеском уединении и чистоте?
Я не знаю, удивили его мои слова, потрясли или он остался к ним безразличен, потому что выражение его лица ни капли не изменилось, и он продолжал смотреть на меня. Поскольку меня смущало такое пристальное внимание, тем более собственного брата, я стала смотреть мимо него в окно на Темзу. Туман беззвучно возвращался, набрасывая на воду белую пленку, так что реку едва было видно, и можно было проследить ее течение лишь по цепи отражений газовых и масляных фонарей и по красному отсвету корабельного котла, размазанному по поверхности воды, как раздавленный плод.
Уолтер повернулся взглянуть, куда я смотрю, и немедленно ахнул.
— Тернеру бы это понравилось, — сказал он. — Такая призрачность и нечеткость.
— Да, — согласилась я.
— Он не просто великий художник, — сказал он, снова поворачиваясь ко мне и беря меня за руку. — Он величайший художник в мировой истории!
XX
Уважаемый сэр!
Я слышал, что Вы пишете биографию покойного мистера Дж. М. У. Тернера, и не могу вздохнуть спокойно, пока не расскажу Вам то, что я о нем знаю; боюсь, Вы не услышите правды ни от его «товарищей-художников» — я имею в виду мистера Джонса, мистера Дэве-нанта и прочих, — ни от светских дам, с которыми он общался в Айлуорте и Брентфорде. Они видели только то лицо, которое он стремился показать миру; я видел другое.
Я был гравером; я и сейчас бы этим занимался, если бы мне не отказало зрение. Надеюсь, Вы не сочтете меня хвастуном, если я скажу, что славился верным глазом и твердой рукой, потому что любой, кто знал мою работу, подтвердит Вам это; и именно так мистер Тернер услышал обо мне и спросил, не сделаю ли я для него несколько гравюр. Это было, думаю, весной 180… Он сказал мне, что издатель заказал ему серию сцен для гравировки и издания в книге, но они поссорились, и он решил опубликовать их сам. Наверное, эта история должна была меня насторожить, но я был молод, плохо знал жизнь, и мне льстило, что такой известный художник, как Тернер, выбрал мою работу для своих рисунков. Он казался вполне благоразумным и деловым, и мы скоро пришли к соглашению: он выгравирует контуры, а потом передаст их мне, чтобы я уже сделал акватинту,[8] меццо-тинто[9] и все, что еще понадобится. За это я должен был получить по восемь гиней за гравюру.