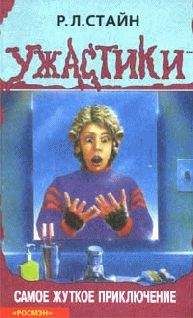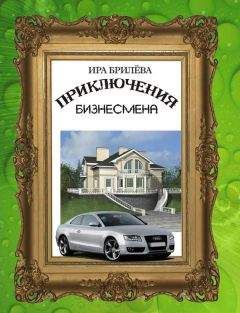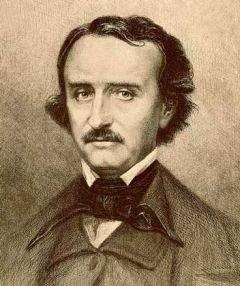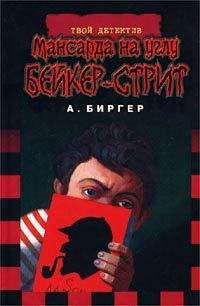Анна Нимова - История зеркала. Две рукописи и два письма
– Кто такой мессир Кольбер?
– Надо же, – Марко удивился. – Живешь в Париже и не слышал о Кольбере… Это главный министр двора его величества. Он и открыл нашу мастерскую.
– Разве это дело не мессира Дюнуае?
– Дюнуае – всего лишь управитель. Такой же работник, как мы, хотя и знатного рода.
Кольбер с Дюнуае не вызвали во мне интереса, и я вернулся к вопросам насущным, тем более, в отличие от Ансельми, Марко не стремился делать тайну из того, что знал.
– Опять в Венецию ты сможешь вернуться?
– Почему нет?
– И тебе ничего не будет за уход?
– Ну, я не собираюсь возвращаться прямо сейчас, конечно, это было бы неразумно. Но пошумят и со временем успокоятся.
– Ты уверен?
– Рано или поздно эта история забудется, Корнелиус. Как забывали про другие истории. Так уж устроены люди: память у них недолгая.
Теперь пришел мой черед удивляться. Марко выглядел скорее равнодушным, больше переживал о родных, чем о себе, могло ли такое быть, что он не знал о законах Республики или, зная, не придавал тому особого значения. Я решил проверить.
– Странно ты говоришь, Марко. Как раз наоборот, я слышал: они не успокоятся, пока не остановят работу нашей мастерской.
– Откуда ты черпаешь свои знания? – в голосе его зазвучал интерес.
– А разве не так? Что было со стекольщиками, которые покидали Венецию раньше? Они понесли наказание за свой уход?
– Право сказать, не знаю. Что было… Толком никто ничего не слышал, и, в конце концов, о них переставали вспоминать.
– А ты уверен, что за уход их не лишили жизни, и только потому более никто не имел от них известий?
Я сказал лишнее. Нужно было не раз подумать, прежде чем заводить тот разговор. Но случилось, что случилось: очередное колесико сдвинулось и повлекло нас за собой. Многое в жизни устроено вот по таким крошечным поворотам, неосторожным движениям, неосмотрительным словам…
С виду Марко отнесся к сказанному довольно терпимо. Он лишь сказал:
– Здесь не принято говорить об этом, Корнелиус.
Не принято, потому что слишком похоже на правду, – подумалось мне.
– Трудно жить, когда даешь волю таким мыслям, – продолжал Марко. – И, к тому же, что попусту рассуждать: ни ты, ни я, и никто другой на самом деле ничего не знает. Всё это – не более чем слухи, до нас доходящие.
– Слухи?
– Ну да. Догадываюсь, что тебе рассказали. В Париж явились люди Республики и разыскивают итальянцев… Но ведь никто их в глаза не видел.
– Откуда же стало известно?
– Вроде как Ла Мотта получил письмо, о том уведомляющее. Но при этом отказался письмо показать, передал на словах. И даже, от кого получено сие известие не посчитал нужным сообщить. Вот и суди: написал ему кто, или он нарочно хочет страху нагнать.
– Зачем же ему пугать людей, да ещё такими новостями?
– Кто его знает… Но любит он других морочить, в чем не раз убеждались. Я ему не доверяю. Слишком много важности желает себе придать.
Я догадался, о чем он говорит… Однажды сам был тому свидетель, как Ла Мотта накричал на одного из французов – Жанно-Не-Дремли мы его звали за лишнюю медлительность. Может, и был тогда Ла Мотта прав, распекая за нерадивость, но притом ссылался на Антонио, дескать, оба мастера давно считают Не-Дремли самым никудышным и уж постараются избавиться, если он за дело опять не с той руки возьмется. Однако быстро выяснилось: Антонио мнение сие не разделяет и, хотя особых надежд о Жанно не питает, в трудолюбии его не сомневается.
– Ты был знаком с Ла Мотта до прихода в нашу мастерскую?
– Я слышал о нём. Дома он был тишайшим, работник отменный, дурного никто не скажет. Но характер, видать, переменчивый. Заносчивый такой стал, гордый, – лицо Марко презрительно скривилось.
– Думаю, ему посулили блага немалые, вот он спит и видит, как пробиться к хозяевам поближе, – продолжал он. – Антонио, Пьетро – у них семьи, рано или поздно они задумаются о возвращении домой. А Ла Мотта хочет здесь остаться, он сам как-то говорил об этом.
– Значит, письмо – единственное свидетельство тому, что вас ищут? – ещё раз переспросил я.
– Другое мне неизвестно.
Марко принялся оживленно говорить: Париж красив, но сумрачен, люди на улицах по большей части хмуры, даже злы, улыбки не дождаться. Должно быть, на них так действует зима, говорят, снег может устлать улицы на глубину ладони, – он со значением очертил пальцем сгиб руки. Краем уха я слушал и отвечал невпопад.
– А нравится ли тебе в Париже?
– Да я и был в городе всего только раз…
– Отчего же, разве не интересно? Хотя, по-моему, единственная прелесть Парижа – эти молоденькие цветочницы, что скажешь?
– Не знаю, я их не встречал…
Но в мыслях снова и снова возвращался к тому злополучному письму и, в конце концов, не выдержал.
– А нельзя ли расспросить Ла Мотта получше? – задал вопрос, удивляя Марко собственной наивностью.
Не особенно охотно, он всё же отвечал:
– Думаешь, не пытались сделать? Но ничего не вышло, он отмалчивается.
– Даже Антонио не смог дознаться?
Марко усмехнулся.
– Антонио… Антонио – не бог, а всего лишь мастер. Он может заставить других работать, но что за пределами работы – ему не подчиняется. Близкими друзьями их не назовешь, ссорятся они предостаточно, сам знаешь. Ла Мотта и так считает, что облагодетельствовал нас, сообщив известие.
– А что Антонио обо всём думает? – продолжал я допытываться.
Марко неопределенно развел руками.
– Он с нами не делился… Но, вроде, он пытался связаться с родными в Венеции, разузнать кое-что, получил ли ответ, неизвестно.
Я задумался. Письмо Ла Мотта – вымышленное или настоящее, тревога Ансельми – неподдельная, а вот не боится остаться ночью один в городе… Потом шаги на лестнице – кто был тот таинственный, решившийся выйти из дома в час, когда глаза едва различают стоящего рядом, а городская стража свирепа и несговорчива? Перебирал эти события, вроде незначащие, сторонние друг к другу, они следовали одно за другим, цепляясь и завязываясь… Подумал, рассказать ли Марко о ночных шагах, но промолчал.
Ансельми в ту ночь так и не появился.
– Марко, а об Ансельми ты знал раньше? – спросил я, когда он собрался уходить.
– До прихода в Париж? Нет, похоже, мы не встречались… – произнес он, как мне показалось, не слишком уверенно.
*****33Ноэль, Ноэль, – твердил себе, когда следующим вечером искал затерянную улицу, незаметная в большом городе, она узким мостиком скрепляла его дороги, давая возможность двигаться по ним беспрепятственно. Но улицу эту почти никто не знал… С большим трудом мне удалось выйти из мастерской раньше окончания работ – на тот случай, если поиски мои займут слишком много времени. Я расспрашивал прохожих, они кивали каждый в свою сторону, словно сговорившись меня запутать, но всё-таки я добрался до нужного места, думается мне, почти чудом. Точнее сказать, это была даже не улица, а тесный проход, упиравшийся в спину большого дома, хотя, пройдя по нему несколько шагов, я успел заметить не меньше трех дверей. Пока я гадал, в какую из них постучать, передо мной появилась полная, шумно и с трудом дышавшая женщина, то ли дыхание её сбилось от быстрой ходьбы, а может, она страдала в жаркий вечер по причине нездоровья.
– Что тебе? – от резкого выкрика я вздрогнул и назвал вслух имя, многократно про себя повторенное. Женщина та с удивлением воззрилась на меня.
– Это дочь моя, если нет ошибки, – она медлила, словно была уверена, всё-таки я ошибаюсь и нужен мне кто-то другой. – Посмотрю, дома ли она.
Она вошла, плотно претворив дверь, до меня не долетало ни звука. Несмотря на заверения отца Бернара, я и так чувствовал сильную неловкость, встреча с матерью Ноэль сбила меня окончательно. Почему-то задумался, превратят ли годы Ноэль вот в такую же раздраженную женщину с опухшим лицом на короткой шее. Пока перемен ничего не предвещало, но ведь и мать её когда-то была молода и, вероятно, в те годы отпечаток жизни, не всегда милосердной к людям низкого сословия, не успел проявиться… Я вспомнил, что она работает в прачне. Всё равно, почему-то я представлял её другой. Мысли мои, попадая вовне, возвращались, являя мне некую суть, для меня это было не ново, раз я работал в стекольной мастерской. Похожее мы наблюдаем в зеркале, когда заглядываем в него, чтобы подтвердить догадку или опровергнуть. Зеркало, как окружающая нас жизнь, или сама жизнь, как зеркало, отражает наши представления; возможно, встречаются счастливцы, для которых желаемое совпадает с увиденным, мои же мысли так разнятся с происходящим. В разглядывании себя я тоже не преуспел, другие видели меня как-то иначе.
Рука моя машинально поправила рубаху, пальцы скользнули по груди, нащупав твердый выступ. Забыл упомянуть, как в один из вечеров сделал из подарка Ансельми нечто вроде ладанки. Я по-прежнему хранил его зеркало в той же тряпице, но продел сквозь неё кожаный шнур, случайно найденный в углу мастерской среди прочего хлама. С тех пор оно нашло место почти у самого сердца, рядом с крестиком, подаренным матерью.