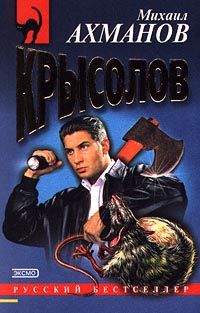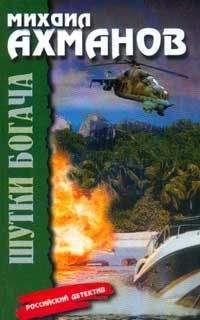Михаил Ахманов - Крысолов
– И журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком, – закончил я и, прощаясь, протянул ему руку.
Глава 14
Выходные дни и начало следующей недели выдались на удивление спокойными. Никто нам с Дарьей не звонил, никто нас не тревожил, если не считать моей постоянной клиентуры, но консультации были нужны пустяковые, и я выдавал их с ходу, изредка заглядывая в компьютер. Все остальное время я предавался занятиям, рекомендуемым для новобрачных в медовый месяц: ходил с Дарьей по выставкам и музеям, любил ее ночью, преподносил цветы и с аппетитом поглощал ее обеды. Еще размышлял об имени моей возлюбленной, вдруг обнаружив, что в нем сокрыт вполне определенный смысл: Дарья – значит, дар, ниспосланный мне провидением или каким-то особым божеством, которое печется о математиках-холостяках. Кто бы это мог быть? Возможно, Софья Ковалевская? Или графиня Ада Лавлейс, дочь великого Байрона, первый программист на нашей планете? Говорят, была красавицей… И, несомненно, умницей… Если у меня родится дочь, не назвать ли ее Адой? Или все-таки Софьей?
Помимо этих важных дел я занимался и другими: листал фантазийные книжки с Дарьиных полок, почитывал словарь (добравшись уже до саксаула, саксофона и саламандры), знакомился с подвигами Рыжей Сони, а также обучал Петрушу приличным выражениям: «прошу простить покорно» и «мерси». Но птица попалась испорченная вконец; сколько ни старайся, а слышишь лишь всякие глупости да гадости, уместные на сухогрузах: «Прр-ромах, прр-ридурок! Прр-рокол, крр-ретин! Поррт, курр-вы! Прр-робка, штопорр, фужерр – наливай!» Словом, порр-рок торр-жествует!
Но все-таки это могло считаться развлечением – в те часы, когда Дарья была на работе. Еще одним моим занятием стали на первый взгляд бесцельные прогулки – на почту или в магазин, в торговый комплекс у метро, на рынок, в мебельный салон, в аптеку. Кроме продуктов, покупать мне, в общем-то, было нечего, но я ходил по улицам, разглядывал витрины и прилавки, спрашивал о тех или иных товарах, рылся в ящиках с фруктами, высматривал белые вина, грузинские или рейнские, которые предпочитаю всем остальным. Вскоре выяснилось, что мою любовь к прогулкам разделяют шестеро, трудившиеся в три смены. Глист и Лиловая Рубаха (потом он появлялся в других одеждах, но я звал его так) были самыми скучными спутниками – уныло тащились за мной, поедая по пути мороженое да изредка пробавляясь пивом. Другая пара выглядела повеселей. Молодой рыжеватый блондин, который двигался приплясывая, посвистывая и поводя руками, получил кличку Танцующий Койот; с ним корешился верзила Три Ноги в куртке с блестящими блямбами, явно косивший под рокера. Он сильно потел и временами стаскивал куртку, плотно сворачивал ее и засовывал сбоку под ремень, где она болталась на манер недоразвитой ноги, как у трехногого марсианина, пораженного с детства полиомиелитом. Два последних напарника казались мне самыми симпатичными: Итальянец, смуглый парень с полоской щеголеватых усиков и темными, как ночь, глазами, и Джеймс Бонд, высокий, светловолосый, похожий на Роджера Мура.
Эта шестерка топтунов отслеживала меня изо дня в день, а кроме них, был еще кто-то в белом неприметном «жигуле», девятая модель, под номером Е-701ВБ. Пешие, как и положено, топали за мной пешком, автомобиль катился на колесах, но неторопливо, в темпе вальса, а не марша. Иногда он замирал где-нибудь на углу, поджидая, когда я доберусь со своим эскортом до парикмахерской, почты или универсама, и будто намекал: от нас и на трамвае не убежишь. Не скроешься, господин хороший, он же – фигурант Хорошев Дмитрий Григорьевич!
Если я находился дома, один из моих соглядатаев сидел на скамеечке во дворе, другой обычно гулял, разминая ноги, а что касается «жигуля», тот дежурил в метрах пятнадцати от ближайшей троллейбусной остановки. Окна в моей квартире выходят во двор, а в Дарьиной – на проспект, так что я мог следить за топтунами в любой из указанных позиций, разглядывать их с помощью бинокля и делать любезные жесты ручкой. Но это были реверансы собственному самолюбию; я знал, что не заметил бы их, если бы не Мартьяныч. Верней, заметил, но много позже и наверняка не всех; надо отдать им должное, они умели сливаться с пейзажем.
Дачный выезд наметился у нас в четверг, в один из первых сентябрьских деньков, когда воздух еще тепел и ласков, солнышко греет, стараясь из последних сил, деревья еще щеголяют сочной зеленью без признаков багрянца и желтизны, а яблоки, наша скромная северная радость, начинают румяниться и розоветь. Птичку мою отпустили с обеда, она прилетела в четвертом часу и, хоть трудилась денно и нощно неделю, потрясла меня своим цветущим видом. Где ты, серая мышка, где?.. Глазки сверкают, локоны вьются, губки алы – и никаких очков! Ни строгого серого тона в одежде, ни пепельных колготок, ни босоножек «прощай, молодость»… Платье – зеленое, выше колена, пуговки – изумрудные, шарфик – серебристый, пояс – золотой плюс итальянские туфли на высоком каблуке да румянец во всю щеку… Верно сказано, что красит женщину любовь! Как, впрочем, и мужчину: я натянул новые джинсы, причесался и побрился.
А кроме того, собрал баул с провизией, сунул в него одежду и книжку о Рыжей Соне, дал Петруше банан и позвонил по известному номеру, сообщив, что раскаты Октября уже добрались из Петербурга в Хамадан. На том конце линии хмыкнули и сказали: «Брось хулиганить, парень!» – и повесили трубку. А тут и Дарья появилась, и вместе с ней – приятные занятия: шарфик снять, пуговки расстегнуть, а то, что под ними, поцеловать. Раз поцеловать, два поцеловать, потом – под ее визг и смущенный смех – расстегнуть что-нибудь еще и вспомнить, что вроде бы собирались на дачу…
Времени заняться серьезным делом – увы! – не оставалось. Мы привели в порядок шарфики и пуговки, распрощались с Петрушей (он напутствовал меня мудрым советом «Порр-рох дерр-жи сухим, морр-рячок!») и спустились вниз. Дежурили в тот день Койот и Три Ноги; сидели на скамейке за песочницей, курили и изображали задушевный разговор. Потом поднялись и не спеша последовали за нами.
Дарья рванулась по привычке на остановку троллейбуса, но я ее придержал, сказав, что договорился с приятелем Пашей – заедет, мол, за нами на машине и довезет до места.
– Когда заедет?
– Минуты через три-четыре, – ответил я, взглянув на часы.
– А что за приятель, Димочка? Ты мне о нем не рассказывал.
– Нарочно. Он – Казанова. Страшный ловелас! Боюсь, тебя отобьет.
– Хи-хи… А где он служит?
– По автомобильной части.
– А какая у него машина?
Об этом я понятия не имел и потому пришлось соврать:
– У него три машины. Не знаю, на какой он нас повезет. Думаю, на «Вольво», а может, на «Тойоте» или…
Тут к нам со скрежетом подкатила «Волга» – голубая, слегка проржавевшая, местами побитая и с легендарной фигуркой оленя на капоте. Паша Кирпичников распахнул дверцу, высунул рыжую башку и доложил:
– Транспорт в вашем распоряжении, Дмитрий Григорьевич. Садитесь. – Потом, поглядев на круглые коленки Дарьи и итальянские туфельки, добавил: – Даму можно вперед!
– Вот уж фиг, – ответил я и запихнул мою птичку на заднее сиденье.
Она пребывала в некотором ошеломлении, но салон оказался просторным, чистым, обтянутым светло-серым бархатом, а диванчик, на котором мы устроились, – широким и мягким. Правда, машина тронулась с места погромыхивая и екая, как томимый жаждой верблюд, но на скорости в тридцать пять километров в час подозрительные звуки прекратились, и тряску сменило ровное, плавное покачивание. Неторопливо и величественно мы плыли мимо купчинских многоэтажек, а за нами, в столь же неспешном темпе, следовал белый «жигуль-девятка» под номером Е-701ВБ. Тоже не бог весть что, однако ж не «Волга» в бальзаковском возрасте.
К моей птичке, кажется, вернулся дар речи.
– Пашенька, – сказала она, – вы только, пожайлуста, не обижайтесь, но мы к утру все-таки доберемся в Приозерск?
Паша поскреб макушку, хмыкнул (точь-в-точь, как мой приятель Андрей Аркадьевич Мартьянов) и разразился лермонтовскими стихами, немного подкорректированными к случаю:
– Какое право вам дано шутить святынею моею? Когда коснуться я не смею, ужели вам позволено? Как я, ужели вы искали свой рай в моторе сем? Едва ли! – Он перестал завывать и произнес нормальным деловым тоном: – Будем не позже половины седьмого. Фирма веников не вяжет!
Дарья, приоткрыв рот, в изумлении уставилась на рыжий затылок Паши, а я начал громким шепотом объяснять ей, что мой друг не только ловелас и спец по автомобильной части, но еще и фанатик изящных искусств. Обожает русскую поэзию, читает в подлиннике Апулея и меценатствует над кордебалетом Театра варьете. Пока я об этом рассказывал (а Паша одобрительно хмыкал и гмыкал), мы добрались до Софийской улицы, широкой и почти безлюдной в этот час. Паша свернул – не налево, к центру, а направо, к окраине, где стояли корпуса овощебазы и где улица упиралась в окружную железную дорогу. За дорогой когда-то была свалка, а теперь тянулись бетонные стены пяти или шести огромных кооперативных гаражей. Я там бывал; кое-кто из моих знакомцев-неудачников держит свои тачки в этих отдаленных палестинах. Мимо гаражей идет дорога к Московскому шоссе, разбитая грузовиками, очень опасная для лиц несведущих и потому получившая название Гробиловки. Есть на ней ямы, есть и камни, а также холмы, колдобины, канавы, пруды и бетонные обломки с торчащей ежиком арматурой. Словом, все, чтобы водитель поседел и выпал в кому.