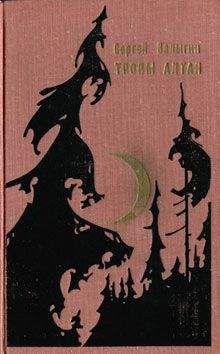Леонид Бершидский - Дьявольские трели, или Испытание Страдивари
Первым сквозь толпу протиснулся еврейчик: Ауэр не хотел томить его ожиданием — слишком молод, может переволноваться. Но вышло хуже: видимо, он перепугался, что все прочие будут играть после него и смогут произвести более сильное впечатление. Не прошло и пяти минут, как он, весь в слезах, уже расталкивал любопытных в обратном направлении. За дверями не услышали ничего, кроме нескольких фальшивых нот, и когда рвался он из класса, не разбирая дороги, никто даже не понимал, что с ним случилось. Ауэр ринулся за ним, чтоб, не дай бог, мальчишка не сделал какую-нибудь глупость или не уехал из города: все же ему непременно надо было учиться дальше.
После этой заминки получил в руки инкрустированную скрипку протеже Ауэра, немец из Восточной Пруссии, молодой человек, обладавший выверенной техникой, — недаром одновременно с музыкой изучал он анатомию, — но притом в лучшие свои моменты создававший звук легкий и нежный, как целомудренный поцелуй. Над ним инструмент издевался дольше и тоньше: звучал деревянно, глухо, натужно. Немец доиграл фрагмент сонаты Бетховена, опустил смычок и недоуменно уставился на скрипку.
— Простите, герр профессор, — сказал он учителю, — боюсь, что это совсем не мой инструмент.
Ауэр кивнул: он и сам все слышал.
Настала очередь поляка. Уверенному в своей победе варшавянину так не терпелось начать, что, влетев в класс — из-за двери слышался недовольный ропот, — он подхватил скрипку и чуть не начал играть, не настроившись, но сумел все же сдержаться, вызвав у профессоров вздох облегчения. Наконец зазвучал вальс-каприччио Венявского; вернее было бы сказать, Ауэр узнал музыку своего предшественника по скрипичному классу консерватории, Давыдов же только болезненно скривился. С таким же успехом воинственный шляхтич мог бы водить по струнам поленом. Через минуту все было кончено. Пробормотав что-то про «курву», варшавянин только что не запустил скрипкой в Давыдова — виолончелист едва успел ее подхватить. Лицо профессора исказилось гримасой такого гнева, что, если бы поляк не ринулся прочь, отшвырнув столпившихся у двери, он непременно окаменел бы, как Атлант под взглядом Медузы.
— Да что ж это у вас, господа, за третий тур? — недоуменно поднял брови Фаминцын. — Эти двое будто отродясь скрипки в руках не держали. Неужто другие были еще слабее?
Ауэр рад был, что следующий конкурсант — хорошо ему известный рассудительный, прилежный студент, флегматичный, но тонко чувствующий музыку отпрыск старинного русского рода.
К этому времени не только критик Фаминцын, но и незваные слушатели поняли уж, что происходит что-то экстраординарное — то ли конкурсанты оказались необъяснимым образом не готовы к решающему испытанию, то ли хваленая скрипка Страдивари, предложенная в качестве главной награды, на самом деле никуда не годится!
Четвертый конкурсант чуть было не развеял их сомнения. Он знал, что предыдущие трое опростоволосились, — пока он пробирался к двери, только об этом вокруг и говорили. Поэтому он подошел к делу основательнее предшественников. Тщательно настраиваясь, он знакомился с привередливым инструментом, как опытный наездник с норовистой лошадью; еще немного, казалось Ауэру, и он даст скрипке сахарку.
Профессора терпеливо ждали: им не хотелось еще одного провала.
Поначалу казалось, что подход аристократа сработал: когда он заиграл Моцарта, скрипка было откликнулась, разлилась сладким, веселым звуком. Музыкант улыбнулся: значит, не в инструменте дело — просто не всякого он полюбит. Но тут же пальцы его словно стали прилипать к струнам, он сбился с темпа, сфальшивил раз, другой… Ауэр кивнул ему, чтобы он начинал снова, и аристократ, потерев руки, чтобы устранить невесть откуда взявшуюся липкость, приступил во второй раз. Лучше бы он этого не делал: на этот раз кончики пальцев его левой руки словно были намазаны густым столярным клеем. Грустно покачав головой, он отложил инструмент:
— Боюсь, не под силу мне ваша задачка, профессор.
И вышел, понурившись. Толпа расступалась перед его тихой печалью.
Остался последний конкурсант. Ауэр запамятовал даже его фамилию. Ах да, Иванов, здесь это — все равно что вовсе никак не прозываться. Виртуоз смотрел на худенького, обтрепанного Иванова уже с надеждой: если он из своей нелепой деревяшки ухитряется выколотить музыку, может быть, благородный кремонский инструмент и покорится ему.
Ауэр даже не представлял себе, насколько окажется прав. Неуклюже сжимая смычок, стоя в явно неудобной, напряженной позе, Иванов несколько раз провел по струнам, будто примеривался играть не на скрипке, а в какую-нибудь дурацкую дворовую лапту. Но тут же услышали они не визг, свист и скрежет, а — Седьмой каприс Паганини. Невозможный Иванов словно всю жизнь играл именно на этой скрипке, так отвечала она на его малейшее движение. Он вел и кружил ее, как балетный танцор кружит на сцене балерину. Дверь в класс приоткрылась, и в щель засунулись любопытные головы, но скрипач ничего не замечал — его глаза были закрыты. Он даже как-то весь подобрался, выпрямился и стал красив в своей застиранной сорочке.
Ауэр оглянулся на Давыдова: ведь если бы не настойчивость виолончелиста, этот Иванов ни за что не дошел бы до третьего тура. Давыдов, человек не сентиментальный и уж совсем не плаксивый, был явно растроган и качал головой в такт музыке.
Когда Иванов кончил играть, профессора дружно зааплодировали. Не было никаких сомнений, что капризная скрипка попала в правильные руки.
— Вот это другое дело, совсем другое дело, — повторял Фаминцын, хотя никто его не слушал. — Может русский-то человек не только балалаечником!
— Дайте я вас обниму, — сиял Давыдов, и правда раскрывая объятия Иванову. — Порадовали… А мне-то казалось, она и не зазвучит! Слышал бы вас прежний владелец, земля ему пухом…
Ошарашенный Иванов позволил профессору прижать его к груди и густо покраснел.
— Я никогда в руках не держал такого инструмента, — промямлил он. — Это как… все время ходишь по земле, а тут вдруг полетел. Вы ведь позволите мне сыграть еще?
— Не только позволим, но и будем заставлять, — вклинился Ауэр. — И скрипка, и стипендия теперь ваши.
И тут в приоткрытую дверь класса не протиснулся, а мягко проскользнул щегольски одетый господин в цилиндре, который он тут же, впрочем, снял и держал перед собою длинными тонкими пальцами. В одежде его не наблюдалось никакого беспорядка от соприкосновения с толпой — он словно прошел сквозь нее, как нож сквозь масло. Темные глаза вошедшего с необычно расширенными зрачками так и впились в лицо Давыдову, к которому он обратился, игнорируя обоих скрипачей.
— Прежде чем вы передадите герру Иванову инструмент, соблаговолите выслушать меня, герр Давыдов, — заговорил он по-немецки.
— А в чем дело? — растерялся виолончелист. Ауэр тоже удивленно уставился на визитера. Иванов же немецкого явно не понимал и переводил взгляд с одного профессора на другого, надеясь, что ему объяснят, что происходит.
— Дело в том, — хладнокровно продолжал щеголь, — что я владелец этого инструмента.
— Потрудитесь объясниться, — бросил Давыдов. — Я немного знал владельца скрипки и получил ее прямо из его рук. А недавно он умер.
— Вы имеете в виду герра Уорда, конечно, — учтиво отвечал человек с цилиндром в руках. — Если вы попросите герра Иванова на минуту выйти — он все равно не понимает по-немецки, а ведь именно на этом языке вам удобнее всего беседовать, — я все объясню и предъявлю необходимые бумаги. А герр Ауэр может остаться: ведь то, что я скажу, касается и его. Простите, сударь, вас я не имею чести знать, — добавил он, адресуясь к Фаминцыну. Вспыхнув, тот хотел ответить резкостью, но отчего-то передумал и поспешно вышел.
Толпа за дверью бурно приветствовала Иванова. Студенты консерватории пожимали ему руку и звали праздновать успех. Но Иванова мучило недоброе предчувствие, и он не спешил уходить, хотя самое время было пропустить стаканчик-другой: вся его жизнь должна была скоро измениться.
А профессора, изучив расписку Уорда в том, что скрипка передается мистеру Эбдону Лэму в обмен на погашение векселя на пятьдесят гиней и еще пятьдесят наличными, переглянулись и замолчали. Подпись Уорда была удостоверена в английском посольстве — в тот же день, когда Давыдов навещал больного. Такая нечестность, да еще со стороны английского дипломата, не укладывалась у Давыдова в голове: то ли атташе сперва пообещал скрипку в уплату долга, а потом всучил ее Давыдову, то ли наоборот. В любом случае дело принимало гнусный оборот.
Наконец Давыдов произнес с тяжестью в голосе:
— Понимаете ли вы, сударь, что сейчас произойдет? Я получил скрипку от господина Уорда, который попросил передать ее способному студенту. Он, изволите видеть, не желал больше играть на ней сам. Я обещал скрипку в пожизненное пользование тому, кто победит в конкурсе. И вот вы слышали игру победителя. Что же, теперь мне придется сказать ему, что он не получит инструмента?