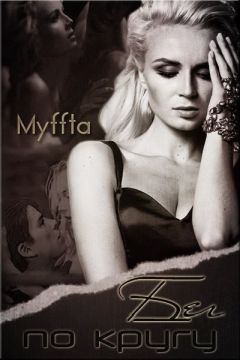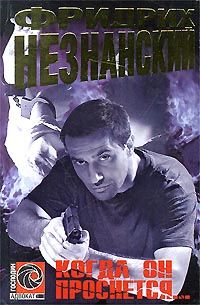Все лгут - Гребе Камилла
Я обул резиновые сапоги.
Потом открыл дверь на улицу.
А потом вышел.
Было довольно темно, но при свете луны я разглядел, что они пошли в лес. Они показались мне похожими на тени, но я был уверен, что это папа Самир и Ясмин, потому что слышал, как они говорили по-французски.
Ясмин повторяла «нет, нет, нет». Я это знаю, потому что французское слово очень похоже на шведское.
– Non, non, non, – говорила Ясмин.
Она немного шаталась на ходу, наверное потому, что на ней была такая обувь с острыми каблуками, которыми так больно наступать на ногу.
Я пошел за ними.
Мне приходилось внимательно смотреть под ноги, прежде чем шагнуть, потому что было темно, а в резиновых сапогах в мороз становится очень скользко. Мама всегда запрещала мне обувать их зимой, но я об этом забыл.
Было очень холодно, и я сам на себя рассердился за то, что не взял куртку. Но про нее я тоже забыл.
Я часто что-нибудь забываю, особенно если тороплюсь.
Или если мне страшно.
Когда я добрался до леса, стало еще темнее. И холоднее. Ветер дул так сильно, что все ветки на деревьях качались. Они казались живыми, и я несколько раз останавливался и зажмуривал глаза, чтобы их не видеть. Но когда я зажмуривался, мне приходилось еще и уши затыкать, а тогда мне становилось еще холоднее, поэтому я перестал так делать.
Скоро стало ясно, что папа Самир и Ясмин шли на утес.
Мне ни в коем случае нельзя было туда ходить, потому что это очень опасно. Однажды летом я все равно туда пошел, но тогда прибежала мама и меня увела. Она подняла меня с земли и закричала:
– Ты в своем уме? Здесь смертельно опасно находиться, Винсент! Ты разве этого не понимаешь?
Потом у мамы на глазах появились слезы, и она несла меня на руках всю дорогу домой. Когда мы пришли, она продолжала плакать, хоть я и старался ее утешить. А потом она надолго забрала моего «Геймбоя».
– С тобой могло случиться все что угодно, – сказала она тогда, и вид у нее был очень-очень печальный.
Только это была неправда.
Единственное, что могло со мной там случиться, – это если бы я упал с обрыва, но мама вечно за все переживает.
Когда я вышел к обрыву, папа Самир и Ясмин уже стояли там, у самого края, хотя это было опасно и взрослые тоже могли упасть.
Я остановился рядом. Мне слышен был шум волн внизу, они шуршали и скрежетали. Но я спрятался за большим деревом, так что папа Самир и Ясмин меня не заметили.
Становилось только холоднее, мне было так холодно, как будто я оказался в морозильнике. Я больше не мог пошевелить пальцами, и мои ступни болели. А еще очень хотелось писать, и я не мог стоять на одном месте, потому что иначе начинало казаться, что я уже писаю. А еще было страшно, хоть и светила луна, потому что мне казалось, что произойдет что-то ужасное.
Папа Самир что-то сказал и показал на ноги Ясмин.
Тогда Ясмин сделала чудную вещь: она сняла сапоги и оставила их на краю обрыва. А папа Самир вытащил листок, который был у него с собой в пакете, и засунул его в один из ее сапог.
В тени у обрыва что-то зашевелилось, и я решил, что это монстр. Я вытянул шею вперед, чтобы рассмотреть получше, но вдруг стало совсем темно. Большое облако закрыло собой луну.
Я так испугался, что чуть не упал, и случайно шагнул вперед, да еще и наступил на ветку.
Иногда, если на ветку наступить, она ломается, и та ветка поступила так же. Она треснула очень громко, как будто кто-то выстрелил из пистолета, и мне сразу сделалось в два раза страшнее. И оттого, что я не знал, что под ногами лежала ветка, и оттого, что теперь меня могли заметить и снова отобрать «Геймбоя».
Я пошел по лесу задом наперед. Хотя облако уже уплыло, а луна снова светила на небе, и земля казалась серебристой, я продолжал пятиться.
Я все шел и шел и два раза упал, потому что ничего не видел задом наперед. Когда упал во второй раз, то приземлился на камень и очень больно ушиб спину, а еще потерял один сапог.
Я остановился и обул сапог обратно.
Потом заплакал.
Потом прошел еще немного.
Потом я пописал в кустах.
Потом пришел домой.
Я лег в постель, и, хоть она еще не успела остыть, мне все равно было очень холодно. Я чувствовал жжение в руках и ногах, они болели. А еще в моей голове было много печальных мыслей, из-за которых становилось страшно и грустно. Я вспомнил длинную иголку, которую папа Самир воткнул в Ясмин. И то, как она говорила в лесу.
– Non, non, non.
Слезы снова появились у меня на глазах, и захотелось, чтобы кто-нибудь утешил меня.
Но папа Самир и Ясмин остались у обрыва, хотя там могло случиться все что угодно.
А мама была на девичнике, на который детей не пускали.
А я был совсем один в темном доме посреди ночи.
И тогда я крепко зажмурил глаза и прижал руки к ушам.
17
Когда я проснулся, еще было темно. Я услышал незнакомые голоса в кухне и сразу вспомнил, что случилось. Вспомнил шприц, и лес, и облако, которое закрыло луну, и ветку, треск которой был похож на выстрел из пистолета.
Мне снова стало страшно.
Я сел в кровати и включил ночник.
Если включить мой ночник, он начинает крутиться, показывая картинки разных животных, и мне это нравится, потому что от этого я успокаиваюсь.
Но в тот раз ночник мне не помог.
Я посмотрел на ноги. Одна ступня была немного грязной, и несколько травинок застряло между пальцев. Я вытащил их, захватил с тумбочки «Геймбоя» и пошел в кухню.
Мама и папа Самир сидели за столом вместе с двумя полицейскими – я понял, что это полицейские, потому что на них была форма, совсем как по телевизору. Это были дядя-полицейский и тетя-полицейский.
– Мама? – позвал я, потому что полицейские заставили меня волноваться, а у мамы обычно получалось успокоить.
Мама поднялась и подошла ко мне:
– Ничего страшного, солнышко. Пойдем в твою комнату.
Она взяла меня за руку и повела к лестнице. А потом рассказала, что полицейские решили, что с Ясмин могло что-то случиться.
Я снова вспомнил и про иголку, и про утес.
Я довольно долго размышлял – иногда со мной такое случается.
Должен ли я был рассказать о том, что случилось в лесу? Наконец я решил ничего не говорить, потому что знал, что мама разозлится, если узнает, что я один ходил на утес посреди ночи. Она точно спросила бы, что было на мне надето, а когда она бы узнала, что я был в одной пижаме и резиновых сапогах, то разозлилась бы в два раза больше.
Фрекен говорила, что есть три вида вранья:
Первый: Ты говоришь неправду. Это называется ложь.
Второй: Ты говоришь неправду по доброте душевной. Это называется белая ложь. Еще есть такая вещь, как вынужденная ложь – это почти то же самое, что белая, но так делают, когда очень спешат.
Третий: Ты не рассказываешь все, что знаешь. Специального названия у такого вранья нет, но это тоже какая-то там ложь.
Мне казалось, что понять разницу между всеми этими видами вранья совсем не просто, но я был не согласен с фрекен в том, что ничего не говорить – это тоже ложь. Я очень часто ничего не говорил, но ведь это совсем не то же самое, что врать.
Я спросил об этом у Майи, и она ответила, что фрекен не обязательно всегда должна быть права. А потом еще сказала:
– Если человек этим никого не обижает, мне кажется, совсем не страшно, если он немного помолчит.
Когда я все обдумал, то решил, что не рассказывать маме будет не так уж ужасно.
– Поспи еще немного, – шепнула мне она и вышла из комнаты.
Тогда я снова почувствовал усталость.
Потом закрыл глаза.
Потом уснул.
Когда я проснулся в следующий раз, уже было светло, но не слишком, потому что зимой слишком светло не бывает. Во всяком случае, на Королевском Мысе. Но у нас было не так темно, как в Паяле – там зимой вообще не бывает солнца. Но люди, которые там живут, к этому привыкли, и олени тоже. В темноте олени роются в земле, отыскивая себе еду. А еще они не мерзнут, потому что у них очень толстые шкуры.