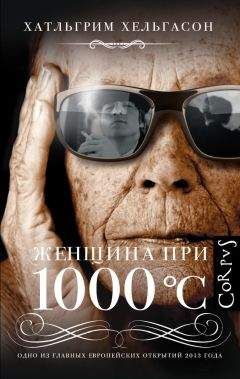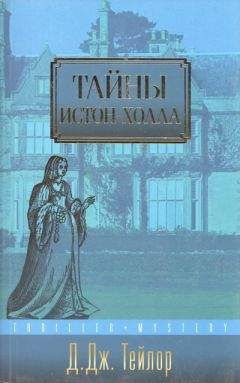Халльгрим Хельгасон - Советы по домоводству для наемного убийцы
— Как вы это… Где вы это раздобыли? — спрашиваю.
— Сделано в Исландии! Ручная работа!
Гудмундур светится от радости, его распирает гордость: это я раздобыл такую замечательную ксиву!
— У меня есть дружок в полиции, — подмигивает он мне с дурацкой ухмылочкой. — И еще один в политической партии.
Обхохочешься. Что может быть смешнее, чем праведники, занимающиеся подпольным бизнесом!
Следующий взрыв смеха вызывают мои попытки произнести мое новое двойное имя. „Томас-лей-в-юр… Том-в-осле-фырр…“ Заставив меня повторить это раз десять, они окропляют мою забубённую голову водой из-под крана, которую Торчер освящает крестом и благосклонной улыбкой. В общем, ребята развлекаются на всю катушку.
— На самом деле тебя должны были назвать Томас Лейвур Богасон, — объясняет мне Торчер. — Буквальный перевод с хорватского. У нас давно существует традиция: иммигрант должен взять исландское имя, которое является калькой либо вариантом его прежнего. Но зачем нам рисковать, правильно? Олавссон означает „сын Олава“, а так зовут нашего президента.
В этой стране нет фамилий в чистом виде. Исландцы по сей день сохраняют традицию викингов, производя фамилию детей от имени отца. Если у меня родится мальчик, то он будет гордо носить крутую и легко запоминающуюся фамилию Томассон, а если родится девочка, то она будет Томасдоттир.
Я умоляю святых отцов дать мне что-нибудь попроще, и после некоторых раздумий они выпускают меня в мир как Томми Олавса.
Глава 24. Отель „Ударный труд“
В дополнение к нелегальному паспорту я получаю нелегальное жилье рядом с церковью Торчера. На первом этаже этого недавно построенного здания располагается роскошный мебельный салон, а на втором ютятся совсем не роскошные рабочие-иммигранты.
Я попадаю в исландское подполье. Я и мои святые друзья словно поменялись ролями. У дружка Гудмундура из политической партии, носатого типа без шеи по имени Гуд-Ни[53] (никакого отношения к Раненому Колену[54]), вид типичного мафиози. В чем это проявляется, неискушенному читателю так с ходу не объяснишь, но рыбак рыбака узнает издалека. Эти глаза повидали многое в жизни и кое-что в смерти.
Этот пухлощекий всклокоченный тип лет пятидесяти в синей ветровке — поначалу она кажется слишком для него большой, однако при ближайшем рассмотрении это он оказывается слишком толстым — вылезает из черного побитого джипа и быстрой побежкой направляется к парадному подъезду. Из карманов, набитых ключами (и оружием?), он достает добрый десяток и только с третьего раза подбирает правильный.
Гудмундур знакомит нас, и выглядит это со стороны довольно комично, как будто гордый отец рекомендует своего сына знаменитому футбольному тренеру. Гуд-Ни на секунду бросает на меня тусклый взгляд и, буркнув исландское „хай“, входит в обшарпанный подъезд с валяющимися на полу яркими, но изрядно затоптанными брошюрами и непрочитанными местными газетами. Мы идем за ним вверх по лестнице, а затем по длинному голому коридору с дверями справа и слева через каждые пять метров. Потолок довольно высокий, арочный, со стенами не стыкующийся.
В конце коридора, в кухоньке, группка темнобровых и красноглазых работяг с бетонной крошкой в волосах потягивают пиво. На дешевом рабочем столике, рядом с допотопной микроволновкой, стоит маленький телевизор. Идет какой-то примитивный детектив, но работяги на экран не смотрят. Гуд-Ни тихо приветствует их на своем мафиозном наречии.
Один из работяг отвечает ему по-английски с сильным славянским акцентом и показывает пальцем туда, откуда мы пришли:
— Третья справа.
Моя каморка. Сын президента довольствуется складским помещением для запчастей, разделенным фанерными перегородками на боксы для сна. Кровать представляет собой матрас, приподнятый за счет фанерных обрезков и пиловочных чурбаков вместо ножек. Еще тут есть старый дешевый офисный стул, настольная лампа без лампочки и абажура и серебряная ложка на грязном полу — всё. Стена напротив двери — это, в сущности, одно большое окно и под ним вытянутый радиатор. Из окна видно такое же здание с магазинчиками на первом этаже и автостоянкой. Гудмундур бросает на кровать черный пластиковый мешок с постельным бельем.
— Хорошая комната, — обращается он к своему другу, а затем поворачивается ко мне со своей возродившейся в вере улыбкой. — Ты всегда можешь прийти к нам поесть, постирать или посмотреть телевизор.
Родной отец мне ничего такого не предлагал.
Гуд-Ни дает мне гуд-ки[55], а также номер своего дорогущего сотового телефона на случай, если в бараке вспыхнет восстание или меня возьмут в заложники. Пожалуй, я не буду говорить гастарбайтерам, что с ними под одной крышей теперь ночует единственный сын президента Исландии. Славная парочка ретируется, и я не успеваю попросить Гудмундура, чтобы он наскоро благословил эту ночлежку. Я начинаю новую жизнь.
С маленькой спортивной сумкой и большой Библией.
Моими сокамерниками оказываются поляки и литовцы да еще один чернобровый лысоватый болгарин по фамилии Балатов, который вполне мог бы сойти за коллегу-киллера. Такой старый добрый Варшавский пакт. Общий сортир называется „мавзолей“. Туда ходят „к Ленину“ (по малой нужде) или „к Сталину (по большой). Саму ночлежку окрестили отелем „Ударный труд“. Обычно все приходят около одиннадцати вечера и уходят в семь утра, громко сопя в коридоре, пока влезают в свои „трактора“.
— Я вам не севен-илевен[56], — поясняет мне Балатов. Весь день он торчит дома: врубит на полную громкость стереомагнитофон и слушает рок из-за „железного занавеса“ или смотрит на кухне „ящик“, матеря все, что там показывают, на своем родном языке. Мне приходится быть начеку и не показывать виду, что я понимаю отдельные слова.
Черноморец подчеркивает свое происхождение с помощью черного свитера, черной бороды, черных волос и черных бровей над черными зенками. Кажется, других цветов он не признает.
— Черная, — произносит он одно из трех десятков освоенных им английских слов, когда на экране появляется чудаковатая негритянка в каком-то белоснежном дневном „мыле“. — Я ебал черную. Хорошо.
Я залезаю в холодильник за пластиковой бутылкой молока.
Весь день мы вдвоем. Я и Балатов, пахнущий конским навозом, вымоченным в бензине. В паузах между рекламой своих сексуальных предпочтений он всячески пытается со мной закорешиться. — Я тебе показывать черную. Фото там. Пошли.
Это все равно что оказаться с тигром в одной лодке посреди океана. Приходится взвешивать каждый свой шаг. Я по-тихому беру на кухне еду, „к Ленину“ же заглядываю, пользуясь шумовым прикрытием, которое мне обеспечивает стереомагнитофон. А так часами сижу у себя в каморке, пытаясь отделить писания пророков от божественных звуков болгарского „металла“. С таким же успехом эти амбициозные ребята могли быть из Арканзаса или Эквадора. Эти лохматые рокеры, рассеянные по всему миру, принадлежат к одной нации. Еврейство двадцать первого века.
Но с черноморцем мои попытки ЗНД не проходят. Раздается стук в дверь. Естественная реакция — где моя пушка? Я без нее как уборщик без швабры.
— Есть крем для битья, — спрашивает он меня.
— Если бы.
— Есть, да?
— Нет, извини.
— Хочу бить лицо.
— Ага. Дело хорошее.
— Ты исландец?
— Как тебе сказать… Отчасти. Отчасти исландец.
Эта страна засасывает меня, как вулкан, работающий наоборот. Чувствую, однажды зимой я проснусь снежной бабой с галькой вместо носа.
— Ты не работать?
Что дальше? Он потребует мой паспорт? Он спрашивает меня про Гуд-Ни и Гудмундура. Я даю короткие ответы, глядя на его макушку, просвечивающую сквозь черные волосья, как темечко новорожденного.
— Гуд-Ни и святой отец — твой друг? — говорит он с довольным смешком, как будто именно это его интересует, но тут же перескакивает на свой любимый цвет. — Ты черную ебать?
— Э… Да. Приходилось.
— Хорошо? — Гадкая улыбочка перерастает в еще более гаденький хохот. — Хорошо! — И продолжает хохотать всю дорогу до своей клетушки. — Черная — хорошо.
Надо будет поинтересоваться у Торчера, допускает ли моя терапия последнее маленькое убийство.
Субботним вечером появляется Гуд-Ни с картонной упаковкой водки, на которой не хватает разве что наклейки „контрабанда“. Он водружает коробку на кухонный стол с видом южного плантатора, знающего, что нужно его рабам, но, так ее и не открыв, а только с шумом выдохнув через нос, деловито уходит в своей шелестящей ветровке. Я настраиваюсь на бессонную ночь, но главные события разворачиваются позднее. В воскресенье поляки поднимаются с утра пораньше и налетают на коробку, как саранча на сахарный тростник. В полдень они уже вовсю распевают национальные хиты и зычными голосами призывают Томаша.