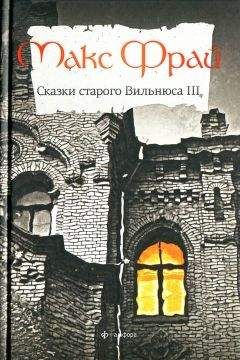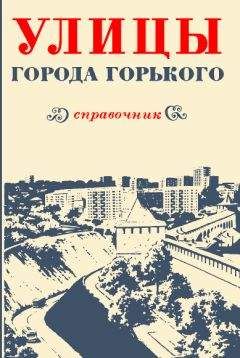Энтони О'Нил - Фонарщик
Она сказала, что это не самое неприятное задание.
Он улыбнулся:
— Тогда, если кто-нибудь спросит, ты ведь не станешь отрицать, что мы всегда были семьей?
Это была странная просьба, но ей не хотелось сопротивляться.
— Боюсь, маме хуже, Эви. Мне пришлось вызвать специального доктора, с которым я познакомился во время службы в Африке, — он из племени ашанти.[4] Когда увидишь его, пожалуйста, не волнуйся. Он может спасти нас.
Эйнсли вышел, не заперев дверь.
Осмелившись чуть позже выглянуть в коридор, она услышала, как посетителя водят по нижнему этажу словно покупателя. Она ждала наверху, и наконец появился Эйнсли с самым странным человеком на свете, которого она когда-либо видела.
Он был очень высок, черен, как Пятница Робинзона Крузо, и с огромной блестящей головой, покрытой иероглифами. На нем было разлетающееся платье цвета шафрана, а в руке — жезл из перекрещенных костей. Что-то жуя и мыча себе под нос, он быстро осмотрел холл, задерживая взгляд на турецких коврах, плетеных корзинах, голове оленя с рогами и других вещах, которых Эвелина никогда раньше не видела. На карнизах, архитравах, панелях, пилястрах… всех броских предметах, как бы стараясь запечатлеть их в своей памяти.
Он посмотрел вверх, увидел Эвелину и резко замолчал. Она замерла, такими пронзительными были его глаза. Но широкие губы быстро раздвинулись в улыбку. Эйнсли жестом велел ей спуститься.
От посетителя исходил запах трав и пепла. Он погладил ее по голове, потрепал по щеке бархатными подушечками пальцев, и в этом простом жесте она ощутила больше нежности, чем во всех усилиях своих родителей. Человек внимательно посмотрел на нее затуманенными чем-то глазами, провел пальцем по шее, плечам и опять замычал себе под нос.
Его провели по комнатам верхнего этажа, причем в спальне Эвелины он оставался один больше часа. Они ждали на лестнице, и Эйнсли пояснил, что все идет хорошо и скоро они отправятся в далекое путешествие.
Отныне ее комнату не запирали, но она не решалась выходить, а если выходила, не видела почти ничего, кроме закрытых дверей, занавешенных окон и разномастной мебели. Мама, как уверял Эйнсли, выздоравливала, хотя Эвелина ее почти не видела. Кипяток и горячая еда по-прежнему появлялись с тюремной регулярностью, хриплый звон часов в длинном корпусе говорил о том, что прошло несколько дней, и вид Эйнсли выдавал растущее нетерпение, а может быть, предчувствие.
Однажды ночью дом застонал, словно на него навалилась какая-то сверхъестественная сила. На крышу обрушилась буря, в окно фронтона брызгали молнии, раздвигая и сжимая ее маленькую комнатку, как кузнечные мехи. Вошел Эйнсли. Дрожа, он зажег свечу у кровати и сказал, что скоро все кончится. Но молнии были пугающе близки. Стены ходили ходуном. Комнату наполнил неприятный запах, резко похолодало. Укутавшись в одеяла, Эвелина смотрела, как ее дыхание сгущается в облачка, пока не поняла, что над кроватью соткались какие-то призрачные очертания. А когда затрепетавшее пламя свечи отбросило на шкаф человеческую тень, она не выдержала.
Эвелина вылетела на лестницу, но на полпути вниз Эйнсли подхватил ее и попытался успокоить.
— Эви, что случилось? — Однако сам дрожал.
Она рассказала ему о человеке, который пробрался в ее комнату.
— Человек? — Он, сглотнув, выдохнул, запахло страхом с запахом мускуса.
— В моей комнате!
— Ну и как ты думаешь, кто бы это мог быть, Эви?
У нее не было ответа.
Эйнсли натужно засмеялся:
— Тогда постараемся выяснить, а?
Он приободрился и прошел вперед, оставив ее на лестнице. Сердце у нее стучало, как будто кулаком колотили в дверь.
Дождь ручьями лил с плюща и топкой струйкой затекал в трубы. Они осторожно пересекли лестничную площадку, и по тому, как просачивался из комнаты свет, стало ясно — в ней кто-то есть.
В ярде от двери Эйнсли присел на корточки и потянул Эвелину вниз. С каменным лицом он подталкивал ее к комнате, словно жертвуя агнца какому-то хищному зверю.
Эвелина смотрела в его бегающие глаза, ощущала его нездоровое дыхание и вдруг ясно поняла, что, как бы ни называл себя этот человек, он не ее отец. Что он не был ей защитой. Что напудренная женщина не ее мать. Что никогда не будет ни путешествия, ни свободы.
Она была одна, как она была одна всегда, и с отвращением попятилась, но Эйнсли втолкнул ее в комнату, похоже, обрекая на что-то ужасное.
Она повернулась и застыла, не веря своим глазам, — в изголовье кровати стоял человек, лицо и заостренную бородку которого освещала свеча. На нем были треуголка, синяя фланелевая куртка и серое кашне, а в изумрудных глазах, казалось, светились все фонари Эдинбурга.
Она изумленно уставилась на него, и его черты тронуло искреннее сострадание.
— Это я, Эви.
Шепот был легким как паутинка, а подлинность чувств — несомненной.
— Светлячок…
Он кивком подозвал ее, и она как завороженная сделала несколько шагов. Эйнсли захлопнул дверь, а двадцать лет спустя улицы обагрились кровью.
Глава 1
Декабрь 1886 года
Томас Макнайт, профессор логики и метафизики Эдинбургского университета, конечно, заметил молодую женщину, сидевшую на одной из задних скамеек и быстро что-то записывавшую, но не остановился, чтобы повнимательнее рассмотреть эту странность, придать ей значение, да просто обратить на нее внимание. Он продолжал лекцию словно во сне:
— Джентльмены, я прошу вас обратить свои взоры на меня и задаться вопросом, существую ли я. Просил бы вас рассмотреть возможность того, что я просто тень или что-либо иное совершенно нематериального свойства. Не потому, спешу прибавить, что я считаю себя призраком или в самом деле тенью. В реальности по целому ряду вполне уважительных причин я могу быть признан человеком. Правосудие, несомненно, подтвердит, что я являюсь мужчиной среднего роста, без особых примет, с посеребренными волосами, зелеными глазами и бородой в форме лопаты. Медицинский факультет, если я позволю ему обследовать мое тело, конечно же, констатирует, что сердце качает кровь, легкие наполняются воздухом, то есть что я имею все признаки живого человеческого существа. Наука возьмет у меня на анализ кровь, распихает частички моей плоти по склянкам, изучит их под микроскопом и укажет, что я являюсь двуногим сочетанием угля и воды, относящимся к виду Homo, возраст которого установить затруднительно. А теологический факультет, вероятнее всего, не усмотрит во мне божественности или хотя бы святости, но ему будет несложно охарактеризовать меня как временное явление, в котором нет ничего принципиально чудесного.
Его речь была подобна часовому механизму, раскручивающемуся с большой точностью и малым энтузиазмом. Каждое его слово, каждая интонация, каждая шутка были настолько просчитаны и однообразны, что, если бы он вдруг неожиданно замолчал или срочно уехал, студент старшего курса, справляясь по старым конспектам, мог бы завершить каждую его фразу — и всю лекцию.
— Нет, джентльмены, если я прошу вас представить меня тенью, то потому, что наш долг в этой аудитории отслоить все предрассудки, отбросить всякие предубеждения, отказаться от всякого сопротивления и бросить слабеющий взор скептика на самый факт моего существования. На факт существования стула в углу аудитории. Существования аудитории. Существования чего-то вне аудитории. Допустить возможность, будто все, что мы считали бесспорным и не подвергали сомнению, на самом деле может оказаться плодом всеобщего невежества.
Несомненно, настанет день, когда ему вообще не надо будет приходить сюда; когда он будет избавлен от необходимости мерить шагами аудиторию, выдыхая в морозный воздух клубы табачного дыма — университетские газовые трубы замерзли, оставив здание без света и тепла, — и это наказание заменят крошечной раковиной, транслирующей его голос при помощи проволочных спиралей и вибрирующих проводков; когда у него больше не будет причин завидовать профессору ботаники Игену, который привел в порядок оранжерею с тропическими пальмами в Королевском ботаническом саду, чтобы читать лекции своим студентам за запотевшими стеклами посреди выделяющих испарения папоротников.
— Рыжеволосый джентльмен в первом ряду ничуть не сомневается в том, что я существую: он собственными глазами видит меня на подиуме, мой голос резонирует у него в ушах, я выделяю некоторое тепло, без которого в аудитории было бы чуть холоднее. А молодой человек во фланелевой куртке в среднем ряду, будучи более поэтической натурой, уже приписал мне определенные свойства. Обаятельный? Несомненно. Мудрый? Разумеется. Щедрый? Слишком, джентльмены, хотя не призываю вас проверять это. Спокойный? Конечно, но лишь потому, что мою смиренную природу так безупречно уравновешивают взрывы незапланированного гнева.