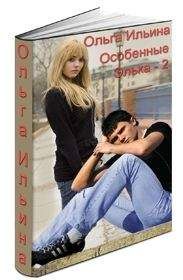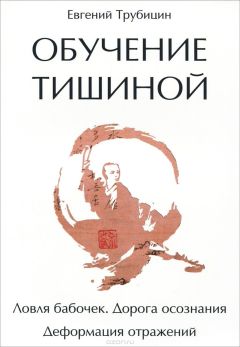Ричард Дейч - Карта монаха
Женевьева ответила улыбкой и негромким коротким смешком.
— Мне надо кое о чем тебя попросить. — Эти слова она произнесла быстро, почти выпалила, как человек, который испытывает потребность сказать что-то и оставить позади неприятный момент.
— Можешь просить о чем угодно.
— Пожалуйста, не торопись отвечать. Я попрошу тебя обдумать то, о чем сейчас расскажу.
— Хорошо, — согласился он, стараясь тоном успокоить ее.
По ее голосу он понял, что она колеблется. Он склонил голову, приготовившись сочувственно слушать; никогда прежде она не говорила так непонятно.
— Есть одна картина. Картина принадлежит мне, уже много лет она является собственностью нашей семьи. Это одна из двух знаменитых работ кисти неизвестного мастера. Картина пропала, и долгое время я считала ее потерянной, но недавно выяснилось, что полотно всплыло на черном рынке. В нем заключен семейный секрет, очень важный.
Женевьева умолкла и погладила Ястреба по животу. Заговорив снова, она не сводила глаз с собаки.
— Нет, я не хочу получить картину обратно; совсем напротив, я желаю, чтобы она была уничтожена прежде, чем попадет в руки человека, которому не должна достаться ни при каких обстоятельствах.
Майкл слушал и отчетливо понимал, что его просят пойти ради друга на преступление. Он посмотрел на конверт, который сжимал в руке, на голубой крест в украшающем его семейном гербе Женевьевы. Бесконечное мгновение тянулось, а ледяной воздух зимнего утра, казалось, проникал в самое сердце.
— За мной охотятся, Майкл. Преследуют, чтобы получить доступ к разгадке этого произведения.
— Как это «охотятся»? — Майкл мгновенно насторожился, в его голосе зазвучал гнев. Резко выпрямившись, он весь обратился в слух.
— У человека, жаждущего заполучить эту картину, нет сердца. Он лишен сострадания и не знает, что такое угрызения совести. Ради достижения цели он не остановится ни перед чем. Нет такой жизни, которую он пощадит, и нет злодеяния, которым погнушается. Он в отчаянном положении, и, подобно животному в капкане, готовому ради свободы отгрызть собственную лапу, он сделает что угодно. А ведь дорога, которая кажется ему спасением и на которую его должна вывести эта картина, на самом деле ведет к гибели.
— Откуда тебе это известно? — В голосе Майкла звучало одно лишь сочувствие, без тени скептицизма. — Не может быть такого, что ты торопишься с выводами? Охотиться за человеческим существом… Кто может быть настолько бездушным?
— Мне стыдно в этом признаваться, но человек, о котором я говорю, тот, кто меня преследует… — Женевьева посмотрела на Майкла, и в этом взгляде выразилась бесконечная печаль ее сердца. — Это мой собственный сын.
Майкл, не отводя взгляда от нее, пытался осознать услышанное. Ее глаза, в которых прежде всегда читалась внутренняя сила, теперь были как у заблудившегося испуганного ребенка.
Наконец, щелкнув медной застежкой темно-коричневой кожаной сумочки, Женевьева достала ключи от машины. Встала, пригладила волосы. К ней возвращались ее обычные выдержка и достоинство.
Майкл молча поднялся, встал рядом.
— Я не знаю, что сказать.
Приблизившись почти к самому его лицу, Женевьева нежно поцеловала его в щеку.
— Сейчас и не надо ничего говорить. Мне самой стыдно, что я тебя об этом прошу. — Она постучала по конверту из манил ьской бумаги, который он продолжал сжимать в руке. — Если ты откажешься, я пойму; более того, я даже надеюсь, что ты откажешься. Глупо было с моей стороны приезжать.
— Женевьева… — начал он, но не нашел, что еще сказать.
Она отступила.
— Я позвоню через неделю. — Она повернулась и пошла прочь.
Майкл смотрел, как она проходит по заснеженной дорожке, садится в машину и отъезжает.
На протяжении последующих дней Майкл обдумывал просьбу Женевьевы: может быть, это чрезмерная, параноидальная реакция на предательство сына? Отчаяние в ее глазах… это так не похоже на нее, а мольба Женевьевы проникала прямо в душу. При всех одолевавших Майкла сомнениях, он ни разу не усомнился в том, что Женевьева не играет с ним ни в какие игры и, какова бы ни была истинная ценность картины, всем своим существом верит, что именно в ней заключены гибель или спасение.
Просьба подруги тяжелым камнем лежала на сердце Майкла; она хочет, чтобы он вновь вступил в мир, который оставил далеко позади, от которого отрекся со времени кончины Мэри. Он находил удовольствие в такой жизни, в память о жене, чьи нравственные убеждения были тверже стали. Кроме того, его навыки наверняка заржавели, а ум, как он опасался, с возрастом начал утрачивать свою остроту. Она просит его не только похитить картину, но и сделать так, чтобы полотно никогда не попало в руки ее сыну.
Три дня спустя Майкл решился позвонить, поговорить с ней, поддержать ее морально, как она в свое время поддержала его. Свой вежливый отказ он выскажет в самом конце беседы. Она хочет, чтобы он выкрал картину из галереи, действующей на черном рынке, да и то лишь по слухам. И даже если вообразить, что он каким-то немыслимым образом разыщет эту галерею, все равно проникнуть в нее будет практически невозможно.
Когда выяснилось, что телефон Женевьевы отключен, сердце у Майкла забилось в тревожном предчувствии. Повесив трубку, он сразу же набрал номер Симона. Слов не понадобилось; уже по тону, каким ответил друг, он понял, что произошло.
Женевьева была мертва.
О существовании «Беланжа», как о призраке, можно было узнать только из слухов. Эта фирма специализировалась на товарах для утонченного вкуса, продаваемых и покупаемых на черном, сером и «каком угодно, только не официальном» рынке. То есть на полотнах, скульптурах, ювелирных изделиях: в частности, на таких, которые считались навсегда утраченными. По слухам, эта организация занималась легендарными артефактами. Однако слухи, по сути, были безосновательными. Потому что под именем «Беланж» скрывалась вовсе не организация в общепринятом смысле этого слова, а человек, которого звали Киллиан Макшейн. Можно сказать, это было предприятие из одного человека; свой бизнес он развернул по десяти адресам в Швейцарии, а также в Амстердаме. Несмотря на то что Киллиан Макшейн любил искусство всей душой и профессионально им занимался, ни по одному из этих адресов нельзя было найти ни единого свидетельства этого факта. Каждое из принадлежащих Макшейну зданий представляло собой элегантный городской дом; обитали там чаще всего представители финансовых структур. В цокольном этаже каждого из этих домов Макшейн содержал офис, в который наведывался не чаще двух раз в год.
Макшейн, действуя в качестве тайного торговца забытыми сокровищами художественного мира, брал пятнадцать процентов за каждую сделку. Его осмотрительность и умение хранить секреты могли сравниться лишь с его же ревностным отношением к вопросам безопасности, и уж что-что, а безопасность в доме номер двадцать четыре по рю де Флер была обеспечена на высочайшем уровне. В здании круглосуточно дежурили трое охранников: один у главного входа, один в вестибюле и один на крыше. Охранников брали не из обычного агентства; Макшейн выбирал только бывших военных полицейских, владеющих навыками, необходимыми, чтобы обеспечить надлежащую защиту при проведении операций. При отборе кандидатов предпочтение отдавалось обладателям двух основных, с точки зрения Макшейна, талантов: умения вовремя обнаружить опасность и меткости в стрельбе. В отношении того, каким образом применять эти таланты, охранникам предоставлялась полная свобода действий. Электронные меры безопасности обеспечивались высокотехнологичным оборудованием того же класса, что и аналогичное военное, а также противоположное по назначению, но не менее мощное, музейное. Все это показалось бы неслыханным любому, кто не чувствует себя в воровском мире как рыба в воде.
Каждое полотно или другой ценный предмет доставляли в это неприметное здание с соблюдением строжайших мер безопасности и помещали в специальную комнату с функцией климат-контроля, где на объект можно было смотреть, но не более того. По завершении переговоров доставлялась оплата, которая вручалась Макшейну. Ни одна из сторон — участниц соглашения ничего не знала о другой стороне и не представляла, с кем именно заключает сделку, и даже сам Макшейн оставался анонимной фигурой, действуя через посредников. Оплата, дабы избежать банковской волокиты с непременным «бумажным шлейфом», всегда производилась в форме облигаций на предъявителя. После доставки облигации удерживались в доме двадцать четыре часа, для проверки действенности. По истечении этого срока оплата и произведение искусства вручались сторонам — участницам сделки, при этом не оставалось никаких свидетельств того, что упомянутая сделка когда-либо имела место.