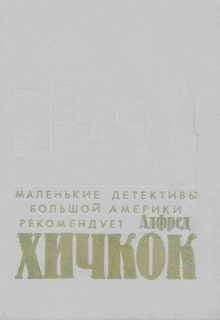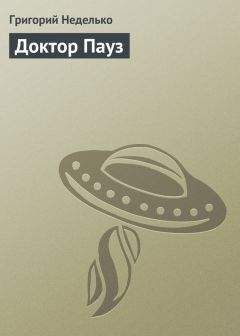Айзек Адамсон - Разборки в Токио
И все же мне хотелось расстаться с ним по-людски и дать парню выходное пособие. Я несколько раз звонил из гостиницы ему на пейджер, но безрезультатно.
Я решил, что разъезжать на угнанном мотоцикле – дурная идея, и оставил его у автомеханика, которого несколько лет назад не дал откепать в Кабуки-тё. Он был более чем счастлив отремонтировать мне байк и к тому же бесплатно отрегулировал карбюратор, хотя, кажется, слегка озадачился, когда я попросил доставить мотоцикл к дому этого Аки. Но у него хватило ума не задавать лишних вопросов. Моему кливлендскому бухгалтеру бы такую сообразительность.
Я поймал такси. Водитель попался разговорчивый, и мне оставалось лишь притвориться спящим. Взрослый человек, а прикидывается, как опоссум. Порой интересно, далеко ли ушли друг от друга наши биологические виды.
Дремать мне не давал грузовик общества «Цугури» с громкоговорителем, откуда нам в задний бампер летели нелепые лозунги. Грузовиков у «Цугури», видимо, больше, чем у японского Управления национальной обороны, – факт, который стоит поминать, когда речь заходит о необходимости помочь автономным армиям Японии и запугать весь континент.
Притворяясь дохлым, я пытался отключить шумы и подумать о Квайдане.
Встреча вышла поучительная. Я еще разубедился: главари банд – плохой пример для молодежи, и я со своей стороны постараюсь, чтобы СМИ перестали их прославлять. Я содрогаюсь, вспоминая, как сам в юности восхищался преступным миром.
Помимо чудачества, никакой харизмы у Квайдана не было. Он был лишен бесшабашного шарма и привлекательности киношных киллеров. Но и особого бессердечия в нем не наблюдалось. Как и отрешенности безнадежного мизантропа, нечеловеческого взгляда хищника, апатичной угрозы Обычный старый бизнесмен, чья эксцентричность местами граничит с паранойей.
Но я чувствовал, что Квайдан не так прост, как прикидывается. Дрессированная собака, татуировка и вертолеты – элементы расчетливой аффектации, хитрый ложный маневр Вопросы о Сато и его гениальности должны были сбить меня с толку. Будто Квайдан прикидывался эксцентриком, чтобы скрыть свою расчетливость. В таком случае он очень опасен.
Может, я порой слишком все усложняю? А вдруг я не прав? Притворяться чокнутым и быть чокнутым – разница невелика. В любом случае становишься опасен. Спросите у Гамлета.
Я сидел на трибуне, и в голове у меня вертелась одна мысль, точно Джейк Ла Мотта,[51] припертый к канатам.
Турнир почти закончился, а сюжета у меня по-прежнему нет. Не то чтобы их вообще не попадалось. Когда вокруг полно молодых инвалидов-бойцов мирового класса, материал для статьи найдется. Я легко мог набросать очерк о любом одаренном тинэйджере и о том, как такие ребята преодолевают трудности. Показать, сколько в нем мужества и решимости, с пафосом призвать всех нас брать с него пример. Все так, но подобное может написать любой репортер. Я – птица более высокого полета.
Должен признать, что на сей раз у меня и сердце к этому не лежало. Все теперь было иначе. У Сары, кажется, не просто очередной зубоврачебный приход. Я это понял по ее голосу и молчанию. Кроме наркоты в ее башке еще что-то крутится.
Сато мертв. Гейша в бегах. Меня преследует какая-то непонятная религиозная организация. Якудза угрожают и назначают сроки. Может, и впрямь существуют дела поважнее очередного чемпионата по боевым искусствам среди молодых инвалидов.
Без особого интереса я посмотрел пару четвертьфинальных боев по спаррингу среди женщин с тремя конечностями. Восторгаться особо нечем. Я уже знал, кто выйдет в финал. Йоко Ториката – точно, и еще была одна девочка с Кюсю – та самая, которую, по-моему, тайно тренировал легендарный Учитель Ядо.
Девочка с Кюсю была кореянкой из Японии по имени Юн Сук Ку. В тот день я смотрел, как она живо разобралась с хорошенькой девчушкой, которая потеряла ногу на мине красных кхмеров, – событие, приравниваемое к обряду детской инициации в некоторых горемычных камбоджийских деревнях. Мне этого показа хватило, чтобы понять: таким стремительным точным движениям, сочетанию силы и утонченности, мог научить только один человек на этой земле.
Но шансов встретиться с Учителем Ядо в этом году было мало. Тут нужен первоклассный репортер-ас и круглосуточная работа. Я был лучшим, но обстоятельства сильнее меня.
Я не мог сидеть и смотреть бои юниоров, высматривая, не мелькнет ли где Учитель Ядо. Тем более сейчас, когда Квайдан требует за неделю найти ему Флердоранж. Что-то мне подсказывало, что Квайдан – не мой редактор в Огайо, и ничего мне прощать не будет.
Мне тяжело было покидать турнир и его триумфы. Я был вынужден честно оценить себя. В прошлом я был функциональным гейшеголиком. Я никогда не позволял личным интересам вмешиваться в развитие сюжета. Но сейчас я терял контроль над ситуацией. Я понимал, что, сворачивая на время репортерские дела, я совершаю непростительное преступление против читающей публики. Но в этом году мне как-то не до боевых искусств.
Уходя с турнира, я надеялся, что уже достиг дна, как выражаются наркоманы, – отсюда начинается программа исцеления. Но я понимал, что этим дело не ограничится. Дальше будет хуже.
Уже на выходе я столкнулся со съемочной группой «Эн-эйч-кей», которая разгружала оборудование. Решив разузнать о внезапной смене статуса Набико, я подошел к режиссеру Тонде. Он что-то писал на планшете и был по обыкновению расстроен.
– Здравствуйте, – сказал я, выжав из себя любезность.
Он в ответ что-то буркнул.
– Я друг Набико. Где я могу его найти?
– Набико? – От одного имени его чуть не стошнило. – Он уволился. Пытается протолкнуть на «Токо» собственный проект, идиот.
– Молодец.
– Ага, – ответил он. – Еще какой. Не знаю, у кого ему пришлось отсосать, но этот кто-то впечатлился.
Я наморщил лоб, как будто не понял.
– Где я могу его поймать?
– Слушай, у меня куча дел.
– Ну ладно, все равно спасибо.
Когда-нибудь Тонда оскорбит не такого терпеливого человека, как я. И поймет, что нос у кинорежиссера ломается так же, как у всех.
Киностудия «Токо» была основана в тридцатых: несколько мелких компаний слились восемнадцать лет спустя после появления в Японии первой киностудии. С тех пор японская кинопромышленность в целом и «Токо» в частности изменились до неузнаваемости. Во время войны монархия вынудила их снимать кинопропаганду. После войны оккупационная администрация объявила, что больше нельзя снимать дзидай-гэки (исторические драмы), потому что они носят феодальный и милитаристский характер. Сато Мигусё как-то сказал мне: «Это все равно что запретить Джону Форду снимать вестерны». В кинематографе наступил хаос: тысячи самурайских костюмов пылились на костюмерных складах.
Все изменилось в 1950 году с выпуском «Расёмона»,[52] который был признан одним из величайших фильмов века. И, конечно, этот фильм познакомил мирового зрителя с японским кинематографом. Хотя действие фильма происходило в феодальной Японии, основной акцент был сделан не на самурайской героике, а на субъективности истины или – еще проще, – на том, что каждый из нас лжец. Разрешив показ этого фильма, американцы неофициально ослабили контроль над местным кино.
Последовал замечательный период творчества! Впервые за всю историю японские режиссеры смогли исследовать любые темы любым образом. Куросава, Одзу, Митзогути[53] и другие талантливые режиссеры процветали. Четыре крупнейшие студии выпускали массу картин, уступая первенство по производству фильмов только американским киностудиям двадцатых и тридцатых. В тот период началось и восхождение молодого режиссера Сато Мигусё.
Тогдашнее оживление сопоставимо только с его краткостью. Появление телевидения привело в упадок студий, которым пришлось повернуться к искусству задом, а к коммерции передом. Утонченный кинематограф сменили фильмы про монстров, порноанимация и шаблонное кино про якудза.
– Даже теперь, – сказал Мигусё в последнем интервью перед смертью, – мы еще толком не пришли в себя. – Серьезные кинематографисты должны либо искать финансы за границей, либо переводить свои идеи на эксцентричный язык культового садомазохистского кино. Азиатские коллеги в Китае, Гонконге и даже во Вьетнаме добивались международного признания, а основной костяк японских кинорежиссеров довольствовался выпуском дешевой эротики и банальных самурайских драм.
Цены на недвижимость росли, кассовые сборы падали, и у «Токо» осталось менее четверти ее довоенных площадей. Когда я подъехал, над воротами висела огромная черная растяжка, оплакивающая потерю Сато Мигусё. Пожалуй, оплакать стоило и последние тридцать лет существования студии.
– У меня встреча с Брандо Набико. – сказал я охраннику у ворот. – Меня зовут Чака. Билли Чака. – Охранник ввел имя в компьютер, а потом замер, явно чем-то озадаченный.