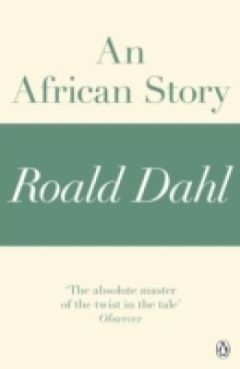Кит Маккарти - Тихий сон смерти
В конце концов Рэймонд Суит действительно нанял адвоката, тот письменно связался с Боумен, делу, как серьезному медицинскому инциденту, был дан ход, расследованием занялась спешно сформированная комиссия из одного менеджера, одного независимого клинициста и одного члена попечительского совета. Дэнни и Ленни были близки к тому, чтобы хорошенько отмутузить Хартмана, уверенные, что он в той или иной мере ответствен за происшедшее, хотя внятно объяснить, на чем основана их уверенность, они не могли. Комиссию мнение лаборантов интересовало мало, однако душевное равновесие Хартмана из-за поведения Дэнни и Ленни серьезно пошатнулось.
Розенталь пропустил стенания Хартмана мимо ушей, но по выражению его лица можно было понять, что его в этом деле интересует каждая конкретная деталь.
– Имя адвоката? – потребовал он.
Поглощенный собственными переживаниями, Хартман не сразу вспомнил.
– По-моему, Флеминг. Елена Флеминг.
– Что содержится в ее письме к Боумен?
Письма Хартман, разумеется, не видел. Розенталь хотя и был этим явно раздосадован, однако давить на и без того запуганного Хартмана не стал. Он просто сказал, вернее, приказал:
– Мне нужна копия вашего заключения.
– Моего заключения? Зачем?
Розенталь улыбнулся:
– Просто я хочу быть уверен, что вы, старина, выполнили свою часть договора.
– Я сделал все, что вы просили.
– Я в этом не сомневаюсь, но все-таки.
Хартман понял, что копию заключения придется раздобыть.
– Вы подменили образцы, которые были взяты при вскрытии?
– Да, разумеется.
– А специальные?
Сперва Хартман не понял, что Розенталь имеет в виду, но потом до него дошло: свежие образцы, которые Белинда взяла для генетического анализа. Инструкции, полученные им от Розенталя, были четкими и ясными: он должен был избавиться от всех свидетельств того, что Миллисент Суит умерла от множественного рака, и вместо этого предоставить доказательства, согласно которым причиной смерти девушки явилась какая-либо другая болезнь – пусть даже рак, но вполне обычный. Поэтому прежде всего Хартману следовало заменить образцы, взятые им для исследования под микроскопом, на другие, с вполне традиционными опухолями, а затем подправить свое заключение таким образом, чтобы ни у кого не возникло сомнений в обоснованности нового диагноза. Единственным препятствием в этом, в общем-то, нехитром деле была Белинда, которая с большим недоверием восприняла его новое заключение.
– Лимфома? – проговорила она удивленно. – Вы считаете, это была лимфома?
Хартман постарался, чтобы его кивок выглядел как можно более естественным. Впрочем, он сам ясно сознавал, что не особенно в этом преуспел.
– Понимаю ваше недоумение. Я и сам поначалу сомневался, но вот слайды. Возьмите их и посмотрите сами.
Белинда так и сделала и, вернувшись через час, сказала, что, если верить слайдам, Хартман, конечно, прав, но вид у нее был по-прежнему озадаченный. И дернул же ее черт предложить:
– А что если провести биомолекулярный анализ? Вы ведь помните, у нас есть свежие образцы. Я уже подготовила генетический материал.
Хартман уже забыл про эти образцы и, услышав, что они не только существуют, но и готовы к анализу, почувствовал, как ему в одну секунду сделалось нехорошо.
– Но вы же не можете!.. – в сердцах закричал он.
Столь яростная реакция Хартмана ошеломила Белинду. Она была не из тех, кто пасует перед трудностями или поддается унынию, но подобное поведение человека, которого она считала безответственным и поверхностным, окончательно вывело ее из себя.
– Но…
– Вы не имели права!
– Но почему?
Этот вопрос оказался для Хартмана непростым, он даже не смог сразу ответить на него более или менее внятно. В конце концов он сформулировал свою мысль – вернее, ее отсутствие – так:
– Вы же знаете инструкции. Причина смерти установлена. Юрисдикция службы коронеров на этом заканчивается, и мы не вправе проводить какие-либо дополнительные исследования.
– Да неужели? Я хочу сказать, что и вы, и я видели тело, и я не припомню, чтобы лимфома так поражала человеческий организм. А вы?
– Ну… бывало.
Однако нерешительность, с которой были произнесены эти слова, выдавала их лживость, и это не укрылось от внимания Белинды.
– Я уверена, что, если бы мы объяснили представителю коронерской службы, он позволил бы…
– Нет! – Надрыв, с которым прозвучал его отказ, вновь показался Белинде странным. Возможно, почувствовав, что перегибает палку, Хартман добавил уже более спокойным тоном: – Коронер получил мое окончательное заключение о причинах смерти. Он не позволит проводить дальнейшие исследования без согласия ближайших родственников, а у меня нет ни времени, ни желания более этим заниматься.
Белинде все это казалось в высшей степени странным. Смерть Миллисент Суит была не просто очередным случаем рака, и Белинде очень хотелось продолжить исследование, но она была всего лишь ординатором и потому не осмелилась возразить Хартману.
Чтобы окончательно расставить точки над «и», Хартман назидательно произнес:
– Юридически мы не имеем права извлекать генетический материал из этой опухоли и тем более его исследовать. Пожалуйста, уничтожьте все образцы.
Белинда неохотно кивнула. Поэтому сейчас Хартман с чистой совестью заверил Розенталя:
– Не беспокойтесь. Все материалы уничтожены.
Возвращение домой оказалось для Елены долгим и утомительным – виной тому стала часовая задержка поезда в Беркшире. Погода стояла не по сезону теплая, и кондиционер, хотя и работал на полную мощность, не справлялся – то ли с жарой в вагоне, то ли с настроением Елены.
Итак, Айзенменгер отказался ей помочь, и уже одно это сильно ее расстроило. Но было и еще кое-что, нечто более важное, что она теперь старательно пыталась выкинуть из головы. Она совершила поездку в полтысячи километров только затем, чтобы услышать, что Айзенменгер сожалеет, но помочь ей, увы, не может. Подлец! Ну почему он не может вести себя, как подобает мужчине? Почему с первой их встречи этот человек только тем и занимается, что осложняет ей жизнь?
Поезд плавно тронулся, и на несколько секунд Елена переключилась с собственного чувства гнева на его источник – доктора Джона Айзенменгера. Он выглядел совершенно больным. Было очевидно, что ночной сон не принес ему облегчения. В утреннем свете бледность его лица стала еще более заметной, кожа на щеках выглядела почти прозрачной и походила на тонкую полиэтиленовую пленку. Говорил он мало, старательно подбирая слова, но и они показались Елене совсем не теми, которые были уместны в данной ситуации.
За завтраком, состоявшим из кофе и фруктов, он наконец сказал:
– Прости, Елена.
– Тебя не заинтересовало это дело? И ты даже не хочешь просто помочь мне?
Он улыбнулся в ответ, понимая тайный смысл ее слов:
– Не то чтобы это дело меня не заинтересовало…
– Точнее, недостаточно заинтересовало…
Айзенменгер пожал плечами, сделав вид, что пропустил эту шпильку мимо ушей, и потупил взгляд, словно опасаясь, что гостья увидит в его тонущих в темных кругах глазах нечто такое, в чем он не хотел признаваться даже самому себе.
В этот момент Елена готова была высказать Айзенменгеру все, что она думает о нем и о его несговорчивости, но неожиданно поняла, что не несговорчивость, а страх не позволяет доктору принять ее предложение. Да, она все поняла: Мари.
За все время своего знакомства с Айзенменгером Елена ни разу не осмелилась упомянуть при нем имя его жены, и, откровенно говоря, не рискнула и сейчас, хотя прошло уже полгода со дня ее трагической гибели. Она понимала, что тень Мари неотвязно преследует доктора, что картина ее смерти, такой страшной и бессмысленной, столь глубоко врезалась в его память, что, вероятно, Айзенменгер никогда не сможет забыть ее. Во всяком случае шрамы от ожогов на его руках не затянутся окончательно, он будет вынужден жить под грузом воспоминаний о пережитом.
Елена протянула руку через маленький деревянный столик и коснулась его ладони. Впервые в жизни она дотронулась до Айзенменгера, и от этого неожиданного проявления чувств он вздрогнул всем телом. С мгновение он смотрел на ее тонкие пальцы, лежавшие поверх его ладони, потом перевел взгляд на ее лицо, и Елена вдруг поняла, что еще немного, и она, словно девчонка, без памяти влюбится в этого человека.
Если только даст волю своим чувствам.
На какое-то мгновение Елена утратила контроль над собой, и ее лицо отразило сложную гамму испытываемых ею эмоций. Перемена в ее состоянии, пусть даже короткая, не укрылась от взгляда доктора: он сразу как-то сник и виновато отдернул руку.
Сразу после завтрака Елена уехала в Лондон, не зная, к кому ей теперь обратиться.
Тернер всегда был человеком целеустремленным; подгоняемый амбициями, он постоянно стремился подниматься все выше и выше по служебной лестнице, но в редкие минуты отдыха порой задумывался, не является ли это стремление всего-навсего попыткой освободиться от прошлого. Один случай из детства, когда Тернеру было, наверное, лет шесть, застрял в его сознании, как застревает порой осколок под сердцем вернувшегося с войны солдата. В тот день он рано вернулся из школы – его подбросил до дому сосед-автомобилист – и рассчитывал застать дома маму. Мамы там не было, но зато дома неожиданно оказался отец, причем не один, а в компании свояченицы – для маленького Робина она была тетей Андреа. Мальчик толком не понял, чем тетя Андреа занималась с папой, и, глядя на них, совершенно остолбенел. Они же, обнаружив, что за ними следят, испугались и не знали, что делать. Повинуясь внутреннему чувству, мальчик выбежал из дому, а отец с тетей кричали, звали его обратно, а у Робина душа разрывалась на части от сознания того, что это грех, что это страшное зло, хотя он и не мог уяснить для себя, что именно он видел и почему это грех. Это детское воспоминание, почему-то вызывавшее у него чувство вины, Тернер вот уже много лет пытался вычеркнуть из памяти, но ему никак не удавалось это сделать.