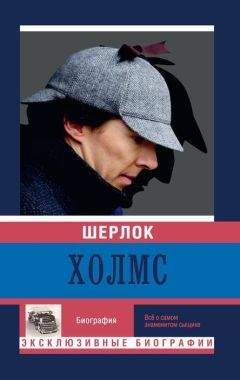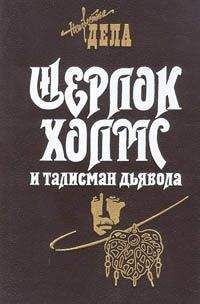С. Тремейн - Холодные близнецы
Только она и осталась – все уже разбрелись.
Моя дочь. С рюкзачком, набитом книгами, в унылой школьной форме. Она подходит ко мне и прижимается лицом к моему животу.
– Привет, – говорю я.
Я обнимаю ее и подвожу к машине.
– Эй, как прошел первый день в школе?
Моя радость неуместна, но что мне еще делать? Сидеть с суицидальным видом? Сказать ей, что все действительно очень плохо?
Кирсти пристегивается ремнями к сиденью и отворачивается к окну – туда, где плещутся стальные воды прилива и мигают розовые и оранжевые огоньки Маллейга. Рыбный порт, вокзал, символы избавления, цивилизации, большой земли – всего этого сейчас не видать из-за сумерек и расстояния. Времени – только полчетвертого, а зимняя тьма уже все скрыла.
– Милая, как школа?
Она молчит, и я сдаюсь.
– Муми-тролль?
– Никак.
– В смысле?
– Никто.
– Ох. Ладно.
И что дальше? Что еще за «никак» и «никто»? Я включаю радио и беззаботно подпеваю популярной песенке, хотя на секунду мне хочется съехать на машине прямо в Лох-на-Дал.
Но у меня есть план, и мы будем его выполнять. Нам надо просто сесть в лодку и доплыть до острова.
И там я сделаю то, чего так боюсь.
Мерзкую и отвратительную штуку.
10
Лодка на месте. Она привязана к пирсу, который тянется от автомобильной парковки возле «Селки». На фоне вздымающихся на заднем плане гор Нойдарта домик смотрителя маяка и сам маяк кажутся издали белыми, чистыми, прекрасными и незначительными. Я торможу и ставлю «Форд» на ручной тормоз.
Дернув за пускач не то четыре, не то пять раз, я завожу мотор. Раньше я справлялась с десятой попытки, но сейчас привыкаю и управляю лодкой гораздо лучше. Я даже умею вязать узлы.
Кирсти садится на другом конце лодки, глаза у нее красноватые, но она спокойна. Она смотрит на меня, потом на скалистый берег Салмадейра. Мы плывем навстречу бризу. Ветер мило ерошит и треплет ее светлые волосы. Ее курносый профиль смотрится просто чудесно. Я так ее люблю, мою малышку. Я люблю ее за то, что она Кирсти, и еще потому, что она напоминает мне Лидию.
Конечно, в какой-то мере мне хочется, чтобы вернулась моя Лидия. Какая-то часть меня поет от радости от этих мыслей. Я безумно скучаю по Лидии. Не могу забыть, как мы сидели рядышком и читали целыми вечерами или молчали в счастливом оцепенении. Кирсти, менее терпеливая, всегда скакала вокруг. Идея, что Лидия может воскреснуть, – из разряда мистических чудес. Жуткое, но чудо. Возможно, чудеса пугают? Но если я верну Лидию – если это и вправду Лидия со мной в лодке, – то умрет Кирсти.
О чем я думаю? Со мной – Кирсти, и я собираюсь это проверить. Самым беспощадным образом. Если я окажусь безжалостной, то доведу дело до конца.
Кирсти спрашивает сквозь усиливающийся ветер:
– Ма, почему он называется Салмадейр?
Нормальный разговор. Уже хорошо.
– Вероятно, это значит «остров псалмов», дорогуша. Раньше здесь был женский монастырь.
– Когда, мам? А что такое женский монастырь?
– Это место, где живут монахини, они там молятся. Много лет назад они сюда переехали. Тысячу лет назад.
– Даже раньше, чем когда мы были маленькими?
Я пропускаю мимо ушей пугающую форму вопроса и киваю:
– Ага.
– И сейчас монахини тут не живут?
– Нет. Ты не замерзла?
Ее волосы растрепаны, а ее розовая курточка расстегнута.
– Нет, мама. Ветер дует мне в лицо, но мне так даже нравится.
– Ладно. Мы почти приехали.
Справа из воды высовывается тюлень. Он смотрит на нас мудрым печальным взглядом брошенного ребенка и с вкрадчивым всплеском опять исчезает. Кирсти улыбается своей дырявой улыбкой.
Волны Слейт добры к нам и быстро доставляют нас на пляж под маяком. Я приподнимаю моторку – настолько она легкая – и вытаскиваю выше линии прилива, туда, где поспешно разбегаются крабы и серебристые чайки клюют гниющего дохлого лосося.
– Фу! – восклицает Кирсти, указывая на воняющий рыбий труп.
Она бежит к дому, толкает дверь, которую мы никогда не запираем, и исчезает внутри. Я слышу, как Бини негромко гавкает в знак приветствия. Кстати, обычно он лает громко. Я привязываю лодку и направляюсь к дому.
На кухне холодно. Крыс не слыхать. На заляпанной белой стене столовой танцуют арлекины. Крышка унитаза придавлена камнем, чтобы не пахло хорьком.
Энгуса нет – он работает и на целую ночь останется в Портри. Мы совсем одни на острове. Все складывается замечательно.
Кирсти треплет Бини за ухом, а потом уходит читать в свою комнату. Я готовлю ужин в полумраке кухни, где над головой болтаются проволочные корзины, сохраняющие нашу еду от крыс. Я слышу дыхание моря – будто кто-то делает зарядку. Почти штиль. Затишье перед бурей?
Я собираюсь с силами, чтобы осуществить свою задумку.
Наверное, надо было действовать три недели тому назад: подвергнуть Кирсти проверке, от которой она не сможет отказаться. Тогда бы она, конечно, не подделала ее результаты. А сейчас всякое может произойти.
Но меня осенило лишь сегодня утром, когда дочка билась в истерике в школе. Да и сформировался мой план по-настоящему только к вечеру.
Он будет основан на дочкиной фобии – она ненавидит темноту.
При проявлениях фобии обе близняшки кричали, но каждая по-своему, по-разному. Кирсти отчаянно вопила и рыдала, сбиваясь и задыхаясь, ее голосок дрожал, но речь была членораздельной. Лидия срывалась на визг – высокий, пронзительный, зубодробительный.
Я слышала подобный крик всего несколько раз. Его ни с чем не спутаешь.
Похоже, именно поэтому я и решилась на эксперимент.
Однажды серьезный припадок разыгрался два года назад, в Кэмдене, когда у нас отключили электричество. Близняшки оказались в кромешной, непроглядной темноте.
Когда это случилось, они бурно и синхронно отреагировали в соответствии со своей фобией. Но Кирсти зарыдала взахлеб, а Лидия пронзительно завизжала.
И теперь я ее нарочно напугаю. Оставлю ее внезапно в полной темноте. Ее реакция будет инстинктивной и рефлекторной, она не сможет притворяться, а я узнаю правду. Мой план бессердечен, меня гнетет чувство вины, но другого способа нет. Дать путанице продолжаться дальше – это еще более жестоко.
Мне надо сделать это прямо сейчас, иначе я потеряюсь в сомнениях и в ненависти к самой себе.
Кирсти вскинула голову, когда я вошла в ее спальню. Она выглядит слишком грустной. Она придала голой комнате чуть более уютный вид, поставив книги на полку и развесив по стенам картинки с пиратами. Но все равно без ее сестры здесь пусто и одиноко. Радио настроено на «Кидз Поп» – поет группа «Ван Дирекшн».
На полу и в плетеной корзине лежат ее игрушки, но она с ними не особо играет. Только плюшевый леопард валяется рядом с ней в кроватке.
Обе близняшки любили Лепу. Может быть, Лидия любила его больше?
Не могу смотреть в ее грустные глаза.
– Дорогая, – осторожно начинаю я. – Расскажи, что случилось сегодня в школе.
Молчание.
Я пытаюсь снова:
– Как прошел твой первый день? Хорошо? А какие у тебя учителя?
Пауза. Только «Ван Дирекшн» звучит по радио.
Она закрывает глаза, и я жду. Я чувствую, что она скажет, и она тихо придвигается ко мне и еле слышно произносит:
– Мама, со мной никто не хотел играть.
Мое сердце раскалывается пополам.
– Вон оно что.
– Я их просила, но никто не хотел…
Боль жжет меня изнутри. Мне хочется крепко-крепко обнять дочь, защитить ее.
– Милая, это же первый день. Такое бывает.
– И я стала играть с Кирсти.
Я нежно потрепала ее волосы, а в висках застучал пульс.
– С Кирсти?
– Она играла со мной, как всегда.
– Ясно.
Что мне делать? Рассердиться? Заплакать? Заорать? Объяснить ей, что Лидия умерла, а она – Кирсти?
Может, я и сама не знаю, кто из них мертв.
– Но когда я стала играть с Незабудкой…
– Да?..
– Все стали надо мной смеяться, мам. Я… заплакала, а они все смеялись.
– Потому, что на самом деле ты была одна?
– Нет! Кирсти была там! Была! Она здесь! Она здесь!
– Дорогая, в доме ее нет, она…
– Она что?
– Кирсти, твоя сестра, она…
– Просто скажи, мама, скажи! Я знаю, что она умерла, ты говорила мне.
– Милая…
– Ты все время повторяешь, что она умерла! Но она приходит, чтобы со мной играть. Она была здесь, и в школе тоже, она играла со мной, она – моя сестра, и без разницы, что она умерла, она все еще тут, я тут, мы тут – почему ты все время говоришь, что мы умерли, если мы не умерли, не умерли, не умерли.
Ее лающий монолог заканчивается злым прерывистым плачем. Кирсти вырывается от меня, ползет к краю кровати и зарывает горячее раскрасневшееся лицо в подушку. Я не в силах ей помочь. Я сижу здесь – жалкая, Отвратительная Мать. Что я сделала с дочерью? Что я делаю с ней? Какую еще боль я причиню ей?
Возможно, не следовало обращать внимания на эту путаницу еще тогда, в Лондоне? Если бы я не стала углубляться в подозрения и настаивать, что она – Кирсти, она бы осталась Кирсти.