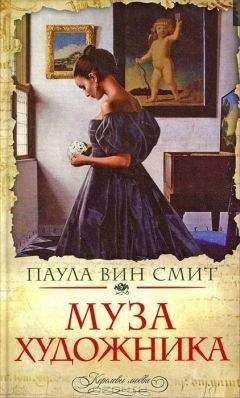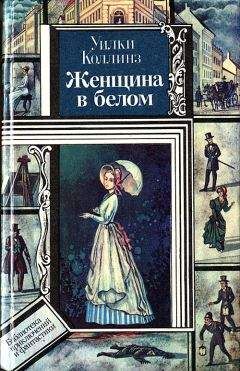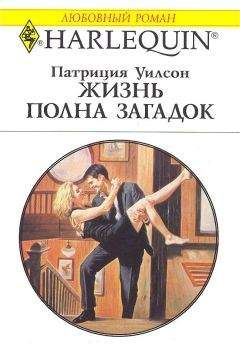Джеймс Уилсон - Игра с тенью
Мы поели, миссис Гаджен убрала тарелки и оставила своего мужа и меня наедине с вином. Мы поговорили немного о его семье, а потом без всякой моей подсказки он начал рассказывать мне про свои приключения с Тернером. Он вспоминал, как Тернер любил шторм — «Чем хуже погода, тем лучше!» — как они однажды в Брайтоне наняли лодку, и тут началась буря, море с грохотом билось о планширы,[5] и всех тошнило, кроме Тернера, который просто напряженно глядел на воду, отмечая ее движение и цвет, и бормотал: «Отлично! Отлично!» Или как они проходили в день по двадцать-тридцать миль в дождь и солнце, иногда останавливаясь в самых ужасных гостиницах, где Тернеру не требовалось ничего, кроме хлеба с сыром, стакана портера и стола, чтобы приклонить голову, если уж не было постели.
— Прекрасные были вечера для молодого человека, — сказал Гаджен, покачивая головой, поглощенный приятными воспоминаниями. — Днем Тернер не показывал мне свои работы и не говорил ни слова, но эль развязывал ему язык, и он пел, шутил (хотя понять его шутки было трудно) и хвастался своими успехами и тем, что он станет величайшим художником в мире.
После этого он надолго замолчал и, думаю, заснул, потому что он вдруг кивнул и дернул головой, посмотрев на меня озадаченно, будто не знал, кто я такой. Потом он улыбнулся, все еще ничего не говоря, словно то, что мы вот так вот сидели вместе, тоже считалось за разговор. Не было слышно ни звука, кроме жалобного блеяния овец вдали и шепота огня, который казался таким же сытым и сонным, как мы. Гаджен бросил в камин еще полено, когда долил нам вина, но пламя едва его обуглило. Свечи догорали; в окне я видел, как в небе появляются первые звезды; я подумал о тех днях (на самом деле не таких уж далеких), когда молодой Гаджен и еще не старый Тернер вот так же сидели вместе, и о том, как за одно мгновение, долю секунды в жизни звезды, время надвигается на нас и побеждает нас. Похоже, в конце концов и я заснул, потому что следующее, что я помню, — это миссис Гаджен, которая трясла меня за плечо, смеясь, и предлагала проводить наверх в спальню.
На следующий день я проснулся поздно и неспешно позавтракал на кухне, которая из-за огня очага была в этот час единственным теплым местом в доме. Потом мы сидели с Гадженом в его кабинете и обменивались благодарностями и выражениями радости от знакомства, пока не пришла его жена и не сказала, что пора уезжать, если я хочу успеть на поезд. Он вышел со мной во двор, а его предприимчивая супруга тем временем уже запрягла в тележку коричневого пони, и тот притопывал, как будто ему не терпелось в путь. Потом Гаджен укрылся от резкого восточного ветра в дверях и, развязав галстук, замахал им как шарфом, держа его здоровой рукой.
После этого миссис Гаджен доставила меня на Брайтонский вокзал с достаточным запасом времени для того, чтобы сесть на поезд в Чичестер, который должен был отвезти меня в Петуорт, и я…
Но нет, если я сейчас начну про это рассказывать, то придется писать еще день. Так что пусть Петуорт останется на следующее письмо, а сейчас я перейду к самому важному моему делу — заверю тебя, что со мной все в порядке и я тебя люблю.
Уолтер
XVI
Майкл Гаджен еще кое-что рассказал мне о Тернере, это его собственные слова, и я записываю их по памяти.
«Я помню один день, когда все ему нравилось: готические руины, вид моря, световой эффект, который он очень любил, когда солнце пробивается сквозь тучи наискосок и делает их зернистыми, как сланец. Ближе к вечеру мы остановились в пивной, а потом перебрались в „Королевский дуб" в Пойнингсе, распевая: „Я монашек в серой рясе".
Вы знаете „Королевский дуб", мистер Хартрайт? Нет? Ну, вам, наверное, он покажется неприметным, да сейчас, возможно, и мне тоже, но тогда после всего, что мы испытали, это был настоящий дворец: постели были удобные, и у нас по комнате на брата. (Пауза, смешок.) Тем вечером, выпивая после ужина, мы заговорили с двумя здоровыми деревенскими девицами; я помню, Тернер сказал им, что его зовут Дженкинсон, и по блеску в его глазах я понял, что лучше ему не противоречить. Меня это рассмешило, и девушки тоже рассмеялись, хотя и не знали, в чем тут дело; в итоге я поднялся к себе вместе с девицей с темными кудряшками, а он повел к себе другую.
(Должен заметить, что я не знаю, чем было вызвано его следующее замечание; я ничего ему не сказал.)
Боже, мистер Хартрайт, вы, молодежь, такие теперь зануды. Неужели вы никогда не проводили время с веселой девицей? (Еще пауза и смешок.) Но девица Тернера, кстати, следующим утром казалась не такой уж веселой. Глаза у нее были красные, а кожа вся в царапинах».
XVII
Дорогая мисс Халкомб!
Спасибо за Ваше письмо от 17 сентября. Я буду рада видеть Вас — и Вашего брата, если он к тому времени уже вернется — в любой день на следующей неделе. Потом нас здесь Вы уже не застанете, потому что доктор предписал моему мужу поездку на море, и мы можем пробыть в отъезде несколько месяцев.
Стоит заговорить о Тернере, и я сразу вспоминаю Темзу, лодки и пикники. Я знаю, что в это время года погода на редкость бурная и неустойчивая, но если день будет хороший, не согласитесь ли отправиться с нами на небольшую поездку по реке (у нас есть ялик, которого как раз хватает на четверых), чтобы посмотреть кое-какие места, связанные с наиболее приятными воспоминаниями о нем?
Пожалуйста, сообщите мне, какой день подойдет лучше всего и устраивает ли Вас мое скромное предложение.
Искренне Ваша
Амелия Беннет
XVIII
Дорогая моя!
Уже три часа, и я наконец сел за письмо, которое обещал тебе вчера. Мне следовало начать утром, но я проснулся рано и отправился в парк, чтобы попробовать написать рассвет. Результат, как и следовало ожидать, ужасен: переваренное яйцо, раздавленное на куче золы. И как он получал на своей палитре такие цвета?
Так на чем я остановился? Кажется, на том, что я сел в поезд на Брайтонском вокзале. Он с головокружительной скоростью пронес меня через Шорэм и Уортинг, Ангмринг и Литтлхэмптон и наконец — прошло чуть больше часа с начала пути — доставил меня как заботливо оберегаемую посылку в Чичестер. Потом на постоялом дворе «Корабль» я сел в дилижанс до Лондона и продолжил дорогу в Петуорт. Таким образом я, как можно было предположить, проехал вполовину меньшее расстояние за вдвое большее время, и меня так трясло и подбрасывало, что скоро на лбу и на плече у меня появились синяки, и я почувствовал себя посылкой, за которой никто не присматривает.
Но хотя я этого и не осознавал — про себя я проклинал свои беды словами, которые наверняка бы тебя шокировали, — судьба мне улыбалась. Среди моих соседей по дилижансу (там также были две пожилые сестры-вдовы, молодой чертежник с полной папкой рисунков, которые он мужественно пытался просматривать, пока от толчка они не полетели на пол, а наверху — компания пьяных студентов, которые орали и гоготали при каждой встряске) была приятная женщина лет сорока. Она сидела напротив меня и, как оказалось потом, сыграла важную роль в моем приключении. Хорошо, но не модно одетая, она была похожа на жену сельского врача или адвоката и, когда нас трясло по сторонам, улыбалась мне как товарищу по несчастью. Когда же я ударился головой, она поморщилась, охнула сочувственно и сказала:
— Джабез Бристоу.
— Прошу прощения? — переспросил я.
— Джабез Бристоу.
Должно быть, вид у меня был недоумевающий, потому что она продолжила:
— Вы, значит, не местный?
— Нет.
— Джабез знаменит. Или, скорее, печально знаменит. Он не может управлять дилижансом, пока не проглотит пинту бренди, чтобы согреться. А когда человек примет пинту бренди, ему уже, ясное дело, на все наплевать.
Я улыбнулся. По голосу тоже трудно было понять, кто она такая; она говорила не как леди, но в речи ее чувствовалась уверенность, говорившая о благополучной жизни, и привычная легкость в общении с людьми любого разряда и состояния.
— Далеко едете? — спросила она.
— До Петуорта.
Она кивнула и, глянув на двух вдов, наклонилась ко мне и сказала потише:
— Жаль мне тех бедняг, что едут до самого Лондона. Нам хотя бы недолго осталось страдать.
Мы почувствовали, как лошади замедляют ход, а потом начинают идти с трудом, будто их груз внезапно стал тяжелее. Выглянув в окно, я увидел маленькую ферму, огороженную кривоватыми каменными стенами, а за ней наша дорога резко поднималась к долинам.