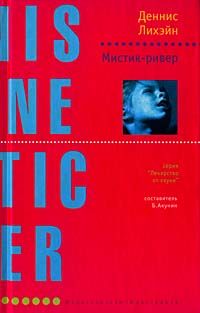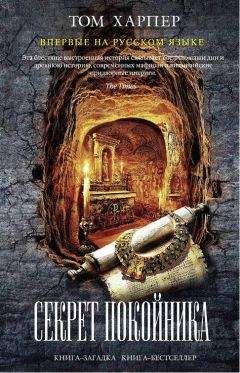Деннис Лихэйн - Мистик-ривер
Шон опять направился к молодой поросли по краю оврага, и красное пятно теперь из пятна превратилось в треугольный лоскут, свисавший с тонкой веточки на высоте плеча. Втроем они стояли перед ним, пока Карен Хьюз, отступив на несколько шагов, не сделала четыре снимка, щелкнув лоскут с четырех точек, после чего стала зачем-то рыться в сумке.
Лоскут был нейлоновый, в этом Шон не сомневался, вырванный, очевидно, из блузки и запачканный кровью.
Карен пинцетом сняла лоскут с ветки и, внимательно осмотрев его, опустила в пластиковый мешочек.
Наклонившись, Шон заглянул в овраг. А потом на другой стороне его заметил нечто, напоминающее впечатанный в рыхлую землю след ноги.
Он толкнул локтем Уайти, показывая ему увиденное. Карен Хьюз тоже посмотрела и немедленно несколько раз щелкнула своим служебным «Никоном». Потом она перешла мостик, спустилась к воде и оттуда еще раз сделала несколько снимков.
Присев на корточки, Уайти заглянул под мостик.
– По-моему, она здесь пряталась. Потом появился убийца, и она рванула на ту сторону и опять побежала.
– Зачем она углублялась в парк? – сказал Шон. – То есть я хочу сказать, ведь она убегала от канала. Почему, наоборот, не повернуть к выходу?
– Может быть, она потеряла ориентацию. Темнота. А в ней еще сидит пуля.
Уайти пожал плечами и вызвал диспетчера.
– Это сержант Пауэрс. У нас наклевывается сто восемьдесят седьмой. Просьба всех, кого можно, направить на осмотр парка. И добудьте-ка водолазов – может быть, пригодятся.
– Водолазов?
– Так точно. Нам понадобится лейтенант Фрил из группы расследования и армейская служба охраны.
– Лейтенант Фрил выехал. Армейская служба охраны извещена. Пока все?
– Так точно. Перехожу на прием.
Шон ясно видел след от каблука, впечатанный в землю, а слева от него царапины, как будто жертва, карабкаясь вверх, цеплялась ногтями.
– Можно попробовать представить себе, как все это было.
– Лучше и не пытаться, – сказал Уайти.
* * *Стоя на крыльце у выхода из церкви, Джимми различал вдали полоску канала. Фиолетовая полоска за эстакадой, а по краю ее зелень парка, единственное зеленое вкрапление. Джимми разглядел даже белое полотнище киноэкрана в центре парка над шоссе. Экран все еще торчал там, хотя участок земли давно уже заграбастал Центр отдыха и развлечений и лет десять как обустраивает ландшафт – вырывает столбы с громкоговорителями, ровнит и озеленяет почву, прокладывает велосипедные дорожки и теренкуры по берегу канала, сооружает огороженные цветники и даже построил лодочную станцию, где любителям гребли предоставляется возможность поупражняться в небольшой заводи. А вот экран так и остался на месте и сейчас выглядывает из-за купы подросших деревьев, завезенных из Северной Калифорнии. Летом здесь разыгрывала представления местная театральная труппа. Они играли Шекспира, превращая экран в задник театральной декорации и бегая взад-вперед на его фоне, размахивая картонными мечами со всякими дурацкими возгласами вроде: «О смертный грех!», «Клянусь, о государь мой!» и прочее. Позапрошлым летом Джимми с Аннабет и девочками, Надин и Сарой, стали клевать носом после первого акта. А вот Кейти не уснула. Она сидела на расстеленном одеяле, подавшись вперед, подперев рукой подбородок, так что и Джимми волей-неволей приходилось следить за действием.
Давали «Укрощение строптивой», и Джимми мало чего уловил из текста – что-то про парня, который отшлепал невесту, превратив ее тем самым в покорную жену. Джимми не очень понял, в чем там суть, и решил, что все испортили переводчики. А Кейти перевод не мешал. Она то хохотала, то замирала, а в конце сказала Джимми, что это было «волшебно».
Джимми даже не понял, чем это она так восхитилась, а Кейти не смогла этого толком объяснить. Она лишь сказала, что спектакль «захватил» ее, а после несколько месяцев все говорила, что после окончания школы хорошо бы ей уехать в Италию.
– Папа! Папа! – Отделившись от группы детей, к нему, когда он спустился с крыльца, бросилась Надин, со всего размаха стукнулась о его ноги с криком «Папа!».
Джимми подхватил ее на руки, почувствовав, как сильно накрахмалено ее платье, и поцеловал в щеку:
– Детка!
Тем же движением, каким ее мать отводила волосы со лба, Надин двумя пальцами отвела с лица вуаль.
– От платья этого щекотно.
– Даже мне щекотно, – сказал Джимми, – хотя оно и не на мне.
– Ты был бы смешной в платье, папа.
– В таком красивом я смешным бы не был.
Надин сделала большие глаза и потерлась о его шею узелком вуали.
– Ну что, не щекотно?
Джимми глядел поверх головы Надин на Анна-бет и Сару и чувствовал, как грудь его наполняется теплом, одновременно стирая все остальное в порошок. Стреляй в него сейчас из пушек, ему и это было бы нипочем. Он был счастлив. Счастливее не бывает.
Ну, почти не бывает. Он выглядывал в толпе Кейти, надеясь, что, может быть, в последний момент она все-таки успела. Вместо нее он заметил патрульную машину полиции штата, завернувшую за угол Бакинхем-авеню; она мчалась по левой полосе Розклер, цепляя задним колесом среднюю линию, сигналя во всю мочь, разрезая пронзительными звуками сирены утренний воздух. Водитель отключил сирену, мотор взревел, и машина рванула по Розклер в сторону канала. Вслед за ней проехала черная машина без опознавательных знаков, ее сирена молчала, но что это за машина, и без того было ясно. Водитель резко крутанул на Розклер; машина мчалась на огромной скорости, урча и подвывая мотором.
Опуская на тротуар Надин, Джимми всем существом, всеми внутренностями вдруг с тоскливой уверенностью понял, что все становится на свои места. Он глядел, как две полицейские машины нырнули под эстакаду, направляясь ко входу в парк, и чувствовал, как вместе с гулом мотора и шорохом шин в его кровь, в каждую его клеточку и капилляр, проникает мысль о Кейти. «Кейти, – чуть не сказал он вслух. – Господи боже, Кейти!»
8
Старик Макдональд
В воскресенье утром Селеста проснулась с мыслью о трубах, проложенных в жилых домах и ресторанах, кинокомплексах и торговых рядах, составляющих костяк всех этих зданий, опутывающих своею сетью небоскребы от самой верхушки и ниже, этаж за этажом, чтобы влиться в еще более запутанную сеть канализационных стоков и труб, таящуюся под городами и поселками и объединяющую людей прочнее, чем язык, – и все это только затем, чтобы было куда деть нечистоты, отходы того, что мы поглощаем и извергаем из наших тел, жизней, выгребаем из наших тарелок и холодильных камер. Куда же все это девается?
Наверное, она и раньше задавалась иногда этим вопросом, но лениво, от нечего делать, как задумываешься подчас, почему самолет держится в воздухе, не падает, хотя крыльями и не машет; но теперь ей действительно необходимо было знать ответ. Она села в постели, взволнованная, озабоченная, и услышала, как внизу во дворе, тремя этажами ниже, Дейв отрабатывал с Майклом бейсбольные удары. «Куда же, куда это идет?» – думала она.
Должно же это деваться куда-то. Все эти канализационные отходы, мыльная пена, остатки шампуней и стиральных порошков, туалетная бумага и блевотина пьяниц в баре, смытые пятна от кофе, крови, пота, грязь из отворотов брюк и с воротников, застывший гарнир, счищенный с тарелок в мусорное ведро, окурки, моча и щетина, сбритая с ног, щек, лобка, – все это смешивается с таким же или сходным мусором, еженощно поступающим из других домов, и течет, как она понимает, по темным, зловонным, кишащим микробами трубам в сыром подземелье, пока не сливается в какие-то пруды или резервуары, а оттуда течет – куда?
Ведь в море это теперь не попадает. Или попадает? Ей смутно помнились какие-то судебные иски за несоблюдение экологической безопасности и что мусор теперь перерабатывают, но, может быть, все это она видела в кино, а в кино чего только не покажут. Ну а если не в море, то куда? Должен же быть какой-то способ. А потом она представила себе эти горы и горы мусора и уже не знала, что и подумать.
Она слышала стук мяча по пластиковой бите. Слышала крик Дейва «Вот так!» и визги Майкла, и раз или два тявкнула собака, так же коротко и резко, как шлепал мяч.
Селеста перевернулась на спину, только сейчас осознав, что спала голая и что уже одиннадцатый час. Теперь, когда Майкл подрос, спать можно сколько влезет, и ей стало немного стыдно, когда она вспомнила, как целовала в кухне в четыре часа утра свежую царапину от ножа на теле Дейва, стоя на коленях, чувствуя и страх, и волнение, как забыты были все опасения насчет СПИДа и гепатита, вытесненные этим внезапным желанием ощущать на своих губах вкус его плоти, прижаться к нему крепко-крепко. Потом, все еще не отрываясь от него, она скинула с плеч халат и стала ласкать его языком, склонившись над ним в короткой рубашке и черных трусах, чувствуя, как тянет сквозняком из-под двери, как мерзнут икры и колени. Страх придавал коже Дейва привкус горечи и в то же время сладости; лизнув рану, она провела языком выше, к шее, и, сунув руку между бедер Дейва, ощутила его волнение, напряжение, услышала, как участилось его дыхание. Она касалась языком его языка, запустив руку ему в волосы, и воображала, что может таким образом высосать из него всю его боль, все, что испытал он на парковочной площадке, может впитать это в себя. Она не отпускала его голову и прижималась к нему всем телом, пока он не сорвал с нее рубашку и не стал целовать ее грудь, и она приникла к его паху и слушала его стоны. Ей хотелось, чтобы Дейв понял: они одно, единая плоть, единый запах, одно желание и одна любовь, да, любовь, потому что теперь, когда она чуть не потеряла его, она любила его с новой силой. Его зубы стиснули ей грудь, и это было немножко больно, но она еще крепче прижалась губами к его рту, приветствуя эту боль. Пусть целует, пусть кусает ее хоть до крови, потому что так он питается ею, желает ее; его пальцы мнут ей спину, а страх его перетекает в нее, а его оставляет. Она впитает, выжмет из него этот страх, и оба они станут сильнее, такими сильными, как никогда раньше. Она в этом уверена.