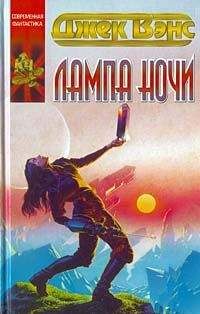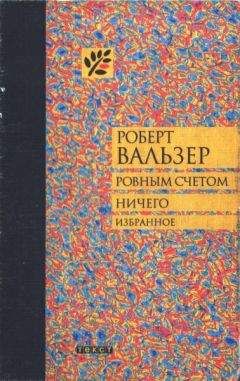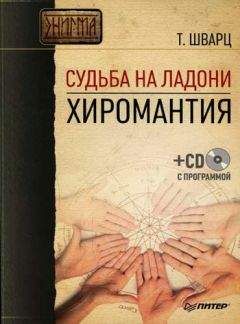Дин Кунц - Живущий в ночи
– Папы больше нет, – сказал я, вкладывая в эти слова гораздо более широкий смысл, нежели она сумела понять.
Саша уже раньше выражала мне сочувствие в связи с близкой кончиной отца и поэтому сейчас не стала рыдать. Ее горе проявилось лишь в том, что чуть-чуть напрягся голос, но никто другой, кроме меня, не заметил бы даже этого.
– Он не… Он умер легко?
– Без боли.
– В сознании?
– Да. Мы с ним даже успели попрощаться.
«Не бойся ничего».
– Какое же дерьмо эта жизнь! – проговорила Саша.
– Таковы правила игры, – ответил я. – Для того чтобы нас приняли в игру, мы должны согласиться на одно условие: когда-нибудь выйти из нее.
– Все равно дерьмо. Ты еще в больнице?
– Нет, уже ушел. Так… болтаюсь. Стараюсь избавиться от плохой энергии. А ты где?
– В машине. Еду в «Пинки динер» – перекусить и поработать со своим текстом перед началом шоу. – Ей предстояло выйти в эфир через три с половиной часа. – Но, если хочешь, могу заказать еду навынос и мы где-нибудь покушаем вместе.
– Я не голоден, – ответил я, ничуть не покривив душой. – Увидимся попозже.
– Когда?
– Когда утром ты вернешься с работы домой, я уже буду там. Если, конечно, не возражаешь.
– Замечательно. Я люблю тебя, Снеговик.
– Я тоже тебя люблю.
– Это – наше маленькое заклинание.
– Это – сущая правда.
Я нажал на кнопку с надписью «конец», выключил телефон и снова прикрепил его к поясу.
Затем я выехал с кладбища, и мой лохматый друг последовал за мной, хотя и без всякой охоты. В его голове шел напряженный мыслительный процесс. Он пытался разгадать многочисленные беличьи тайны.
* * *Я добирался до дома Анджелы Ферриман очень долго, поскольку ехал кружным путем, где почти не было машин и ярких уличных фонарей. Когда же они все-таки встречались, я принимался крутить педали с удвоенным усердием.
Преданный Орсон – чернее самой темной ночи – трусил рядом в таком же темпе, что и я. Ему это нравилось, и он заметно повеселел, проворно перебирая лапами сбоку от меня.
Навстречу нам попалось всего несколько машин. Каждый раз при их появлении я щурился и отворачивал голову.
Жилище Анджелы представляло собой очаровательное бунгало в испанском стиле, расположившееся под сенью магнолий, еще не успевших расцвести в это время года. Сейчас окна на его фасаде не светились.
Пройдя через незапертую калитку, я оказался в зеленом тоннеле. Он представлял собой длинный полукруглый, сделанный из реек проход, плотно увитый жасмином. Его лиственные стены и сводчатый потолок были испещрены звездочками цветов. Летом их станет еще больше, и зелень будет казаться укрытой белым кружевом.
Я глубоко вдохнул, наслаждаясь тягучим ароматом жасмина. Орсон дважды чихнул.
Спешившись, я провел велосипед сквозь зеленый тоннель, обогнул бунгало и прислонил свою железную лошадку к одному из двух деревянных столбов, поддерживавших навес над крыльцом.
– Охраняй, – приказал я Орсону. – Оставайся начеку. Постарайся казаться большим и злобным.
Пес глухо гавкнул, подтверждая, что понял задание. А может, он и впрямь понял – что бы там ни болтали Бобби Хэллоуэй и полиция по надзору за здравым смыслом.
Из-за шторы на окне кухни пробивался слабый свет свечи.
На двери находились четыре маленьких декоративных окошка. Я осторожно поскребся в одно из них.
Анджела Ферриман отдернула занавеску, нервно посмотрела на меня, а затем взглянула на крыльцо, желая убедиться, что я пришел один. С видом заговорщика она впустила меня в дом, заперла дверь и плотнее задернула шторы, чтобы никто с улицы не мог нас увидеть.
Хотя на кухне царило приятное тепло, а Анджела была одета в серый шерстяной костюм, на ней был еще и теплый синий свитер. Вероятно, он когда-то принадлежал ее покойному мужу, поскольку доходил этой миниатюрной женщине до колен, а плечи его свисали до ее локтей. Рукава были закатаны так сильно, что казалось, будто на запястьях Анджелы – широкие стальные кандалы.
Однако даже во всех этих одежках Анджела все равно выглядела хрупкой. Видимо, она постоянно мерзла, поскольку в лице ее не было ни кровинки и ее била непрерывная дрожь.
Она обняла меня. Это было ее обычное – крепкое, костлявое и сильное – объятие, но теперь я почувствовал в ней необъяснимую усталость.
Затем Анджела устроилась возле полированного соснового стола и жестом пригласила меня сесть напротив.
Я снял кепку и хотел было избавиться от куртки, поскольку на кухне было слишком жарко. Однако в кармане куртки покоился пистолет. Он мог звякнуть об стул или выпасть на пол, когда я буду раздеваться, а пугать Анджелу мне не хотелось.
В центре стола горели четыре церковных свечи, вставленные в подсвечники из рубинового стекла. Отражаясь в нем, их пламя отбрасывало на полированную поверхность стола зыбкие красные блики. Рядом стояла бутылка абрикосового бренди. Анджела поставила передо мной внушительных размеров бокал, и я наполнил его до половины.
Ее бокал был полон по самый край, и я догадался, что он у нее – не первый за сегодняшний вечер.
Анджела сжимала бокал обеими руками, словно пытаясь согреть ладони, а когда поднесла его к губам, еще больше, чем когда бы то ни было, напомнила мне брошенного ребенка. Несмотря на свою изможденность, она выглядела лет на пятнадцать моложе своего возраста, а сейчас и вовсе была похожа на девочку.
– С тех пор как себя помню, я всегда мечтала стать медсестрой.
– Ты ею и стала. Причем – самой лучшей, – искренне произнес я.
Женщина облизнула с губ остатки бренди и уставилась в свой бокал.
– Моя мама страдала ревматическим артритом, болезнь прогрессировала не по дням, а по часам. Так быстро… К тому времени, когда мне исполнилось шесть, она уже могла ходить только в металлических скобах для ног и с костылями, а вскоре после моего двенадцатилетия слегла в постель и больше не вставала. Она умерла, когда мне было шестнадцать.
Я не знал, что сказать. Любые слова утешения в данной ситуации прозвучали бы нелепо, фальшиво и кисло, как уксус. Я был уверен, что Анджела собирается сообщить мне нечто важное, но ей нужно время, чтобы подобрать слова, выстроить их в определенном порядке и заставить маршировать через стол в мою сторону. Поскольку, что бы она ни намеревалась поведать мне, это нечто пугало ее. Пугало до смерти, заставляя дрожать и бледнеть.
Медленно подбираясь к главной теме своего рассказа, женщина продолжала:
– Мне доставляло удовольствие приносить маме какие-то необходимые мелочи, которые ей самой взять было трудно. Стакан чаю со льдом, сандвич, лекарство, подушку для кресла – все, что угодно. Потом – утку, а под самый конец, когда она уже находилась в бессознательном состоянии, – менять ей простыни. Даже это не вызывало у меня брезгливости. Когда я что-то приносила ей, она всегда улыбалась и гладила меня по голове своими бедными, изуродованными болезнью руками. Я не могла излечить маму, не могла вернуть ей способность бегать и танцевать, избавить ее от боли и страха, но я могла ухаживать за ней, следить за ее состоянием, доставлять хотя бы маленькие радости. И это было для меня важнее, чем… все на свете.
Абрикосовый напиток был слишком сладким, чтобы называться бренди, но все же не таким приторным, как я ожидал. Зато он оказался весьма крепким. Но все же не до такой степени, чтобы заставить меня забыть о своих родителях, а Анджелу – о ее матери.
– Я хотела только одного – стать медсестрой, – повторила она. – И в течение очень долгого времени была вполне довольна своей работой. Да, это грязная и печальная работа, особенно когда теряешь пациента, но вместе с тем она приносит огромное удовлетворение. – Анджела подняла глаза от бокала. Их взор был обращен в прошлое. – Господи, как я напугалась, когда у тебя был аппендицит! Я боялась, что потеряю своего маленького Криса.
– Не таким уж я был и маленьким. Девятнадцать лет.
– Глупыш, я стала твоей приходящей медсестрой с того дня, когда тебе поставили диагноз, а ты тогда был еще грудничком. Для меня ты всегда останешься маленьким.
– Я тоже люблю тебя, Анджела, – улыбнулся я.
Привыкнув выражать свои эмоции без обиняков, я иногда забываю, что некоторых людей эта манера может озадачить, а других, как случилось сейчас, чересчур сильно тронуть. Глаза Анджелы наполнились слезами. Чтобы не дать им волю, ей пришлось прикусить нижнюю губу и вновь приложиться к бокалу.
Девять лет назад у меня случился аппендицит. Это был как раз тот случай, когда болезнь не дает о себе знать до того момента, пока человек не окажется в критическом состоянии. После завтрака у меня прихватило живот. Перед обедом меня уже отчаянно тошнило, я стал красным как рак и страшно потел. В животе бушевала такая боль, что я извивался подобно креветке, которую повар-француз живьем кидает в кипящее масло.
Моя жизнь оказалась под угрозой. Дело в том, что я не совсем обычный пациент и врачам в больнице Милосердия необходимо было принять определенные меры. Разумеется, ни один хирург не стал бы разрезать мне живот и проводить операцию в кромешной темноте или даже при недостаточном освещении. Но вместе с тем, если бы я оказался на операционном столе и находился там долгое время в свете хирургических ламп, я получил бы страшные ожоги кожи, результатом чего неизбежно стал бы рак, а о заживлении шва не пришлось бы и мечтать.