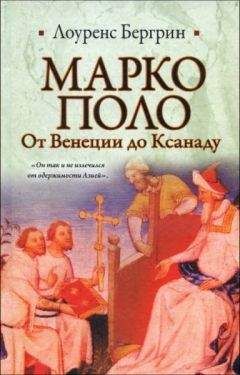Альфред Хичкок - Истории, от которых не заснешь ночью
Клятва не Гиппократа, а гипокрита (ханжи!), это уж точно!
Мы были все в трех метрах от него, за стеклом толщиной в один сантиметр, но нас разделял миллион световых лет, миллион световых лет разделял газовую камеру и "зрительный" зал. Больше приговоренный не повернулся. Привязанный, исповеданный, проинформированный о том, как наилучшим способом отправиться в мир иной, он сидел в ожидании смертных паров. Потом я даже узнал, что тело свое он подарил науке.
Я быстро огляделся. Виктор взмок от пота, лицо его было приковано к застекленной перегородке. Приплюснутый нос, вытаращенные глаза, живот, "перерезанный" медной перекладиной, — политикан пачкал стекло своими круглыми пальцами. Выражение лица у него было такое, словно в этот момент он занимался любовью. У репортеров вид был сконфуженный, как если бы они подглядывали в дверь женского туалета. У военного, казалось, сейчас откроется рвота. Только у тюремщиков интереса к привязанному человеку было ровно столько, сколько к мишени после стрельбы в нее в тире.
Ненависти не читалось ни на одном лице.
Вдруг впервые в жизни я почувствовал себя сопричастным, и мне захотелось заорать: ОСТАНОВИТЕСЬ! Мы сейчас убьем человека, а никто не желает его смерти. Мы построили это общество, мы несем ответственность, но каждый из нас отказывается нести эту ответственность. Мы ведем себя как тот нацист в Нюрнберге, который заявил, что все было бы к лучшему, если бы у него было больше крематориев.
Директор тюрьмы дал сигнал, и я услышал, как газ начал обволакивать стул со стоном: у-у-ф!
В соответствии с приказом властей, приговоренный и не пошевелился, а затем глотнул большую порцию газа, как тому его научил знаками доктор. И вдруг в конвульсиях тело его описало дугу, голова его задергалась, и я увидел, что глаза его закрылись, а зубы обнажились. И, как ребенок под кислородной маской, он начал тяжело дышать, только легкие его обволакивал не кислород.
Лейтенант судорожно откинулся назад, замигал глазами, и его вырвало прямо на стекло. Точно фосфорная бомба, взорвавшаяся в бункере, его рвота на какое-то мгновение осталась висеть на стекле, а затем два охранника увели лейтенанта из зала; мы же все отодвинулись от стекла, за исключением политикана, который ничего и не заметил. Сосланный в Хенри-Миллс-Сити, он продолжал наслаждаться.
Приговоренный, который должен был бы умереть за две секунды без страданий, продолжал тянуть вниз свои ремни, его скрюченные руки напоминали когти, мышцы его челюстей выступали, как шары. В конце концов он осел, и его обмякшее и подвешенное на ремнях тело напоминало обстрелянного парашютиста.
Однако это был еще не конец, поскольку он сделал еще один вдох, который обозначил под рубашкой его ребра. Прошло двадцать секунд. Мы решили, что он умер.
Но еще третий вдох, а потом, тридцать секунд спустя, последняя судорога тела. На этот раз это был конец, он отправился к ангелам.
Да нет же, грудь его взметнулась еще раз: все клетки этого причудливого трупа безнадежно требовали воздуха, а имели право лишь на цианистый газ. "Нервы, — подумал я. Как рыба, которая продолжает биться, когда голова ее уже раздроблена, а в туловище по рукоятку воткнут нож. Очень похоже, только это не рыба только что испустила дух".
Голова мертвеца упала набок, язык выпал, как у убитой лани, струйка липкой жидкости вытекла изо рта. Мне объяснили, что это слюна, но мне показалось, что это напоминает остатки обугленного после короткого замыкания провода.
Совсем тихим голосом, как если бы он говорил сам себе, Виктор прошептал:
— До скорого, старикан.
Вот. До скорого на том свете, старикан. Десяти минут достаточно, чтобы "дать дуба". Он умер, он отбыл в мир иной.
Связанное тело походило на тело человека, изуродованное приемом наркотиков; вы напрасно будете пытаться поднести к глазам его зажигалку, все, зрачки не реагируют. "Дома никого нет". "Конечная остановка".
Мы снялись с якоря.
По дороге я не переставал спрашивать себя, почему рвало лейтенанта. Потому что осужденный был последний, кто обладал — насильственно или нет телом его возлюбленной и что теперь эта последняя нить была порвана. Какова бы ни была причина этой рвоты, тело лейтенанта, без сомнения, постигло то, чего не мог постичь его разум: этот конец не принес никакого начала, эта смерть не вернет ему никогда его умершей любимой. Эта смерть, какой бы справедливой она ему ни казалась, не вызвала в нем ничего, кроме рвоты.
Сидя в "мерседесе" с открытым капотом, мы с Виктором долго созерцали полупустой остров, который носил имя не святого, как считалось, а какого-то бедного кретина-индейца, повешенного здесь около века назад. И деревья вроде бы, и облака, и море синее, но ни одной птицы, чтобы можно было бы дополнить картину. Даже эти типы в черном исчезли, но я понимал причину их молчаливого протеста: средневековье — это мы.
Дрожа, Виктор сделал глубокий вдох, как если бы ему никак не удавалось наполнить воздухом свои легкие, а потом едва слышным голосом спросил меня:
— Ну чего, тебе понравилось?
Я пожал плечами и, по-прежнему верный своему воображаемому персонажу, ответил:
— Получилось вроде, старикан.
— Угу, ты можешь так сказать: получилось.
Он явно фальшивил. Я открыл бутылку текилы, которую мы распили за пятнадцать минут даже без лимона в перерыве между глотками. Потом Виктор разговорился, и я понял, в чем дело. Вид осужденного на казнь и газовая камера открыли ему, что жизнь — это отнюдь не ребячество, не забава. Мы оба частично были ответственны за эту казнь. Мы неотвратимо пали в своих собственных глазах.
На автомагистрали 101 Виктор набрал скорость до ста семидесяти, да так и сохранял, ныряя между машин. Это было идиотство, это был конец. Я был один, без моего Поводыря, на берегу кровавого потока. В конечном итоге инспектора дорожные нас остановили. У Виктора был столь возбужденный, а у меня столь апатичный вид, что они начали искать на наших руках следы уколов наркотиков.
Я им ни слова не сказал, даже своей фамилии, они, бедолаги, вынуждены были искать какой-нибудь документ в моем портфеле, чтобы узнать, кто я. Виктор пришел в бешенство, кусаясь, брыкаясь, пена изо рта, пятое и десятое, пока один из полицейских не треснул его дубинкой. А я наблюдал.
Мой друг нарвался на штраф лишением прав, поскольку его папаша подмазал одного психиатра, который диагностировал приступ сумасшествия и пристроил его на некоторое время к чокнутым. Сейчас он вышел из этого зоосада, но продолжает посещать этого "вправляющего головы" трижды в неделю, да еще и платит ему за визит сороковку.
Ему и впрямь это необходимо. Несколько дней назад я встретил его на улице Сан-Франциско; он мягко вышагивал по улице босиком, одетый, несмотря на холод и туман, в майку и джинсы. Он казался возбужденным, взволнованным и весь в своих мыслях.
— Ну как, все в порядке? — спросил я у него. — Что нового?
Медленно кивая головой, он ответил:
— Вот, так просто они не дадут нам выкарабкаться. Для них простой факт жизни — это преступление.
— А ты что, больше не носишь ботинки?
— Я не могу больше их носить.
Он подошел ближе, огляделся и прошептал трагическим тоном:
— Я слышу теперь только подошвой ног.
А потом, кивнув головой, он исчез, затерялся в толпе, как сбившаяся с пути пантера; прошел мимо торговцев фруктами, зеленщиков, волтузивших друг друга подростков, полицейских, пытавшихся поймать лихих парней с наркотиками. Виктор, я думаю, не хочет больше слушать матери-земли; он хочет слушать только ободряющий шум червей, которые медленно пожевывают.
Которые пожевывают и ждут Виктора, может быть, в итоге, следующего.
Морис Херсман
Письма читателей
Дорогой господин Хичкок,
Пишу вам, потому что много слышал о вас и очень хотел бы знать ваше мнение по поводу кое-чего. Мои друзья говорят, что я мог бы стать хорошим писателем. Надо сказать, у меня талант писать письма.
Ну, в общем-то, может, вы могли бы сказать мне, нрав ли я или неправ, что у меня такой вот страх.
Да, так возвращаясь к моей истории. Это произошло на самом деле. Если вам захочется написать роман, то я мог бы с вами сотрудничать: у меня история, а вам остается только ее записать.
Это произошло со мной на пляже в Брайтоне. В Кони-Айленд, вы знаете, что в Бруклине.
Когда я хожу туда, я беру всегда с собой в бумажном пакете большое полотенце. Я его разворачиваю, раскладываю на песке, снимаю брюки, рубашку, а поскольку на мне купальник, я пытаюсь тут же воспользоваться возможностью позагорать. Я располагаюсь около старого, облупившегося рекламного щита, где написано: "Бухта-2". Здесь очень много людей моего возраста, мне около тридцати; они все приходят сюда. Распростершись на песке, я смотрю на проходящих надо мной по решетчатому настилу загорающих, отдыхающих. Хотя вроде бы и много таких щитов, и, таким образом, нужны штаны и рубашка, чтобы здесь прогуливаться, но никто, правда, внимания на это не обращает.
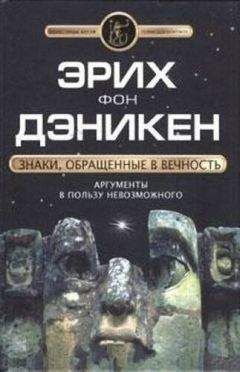

![Эрих фон Дэникен - Боги майя [День, когда явились боги]](/uploads/posts/books/186572/186572.jpg)