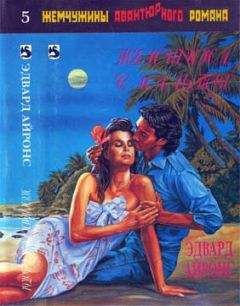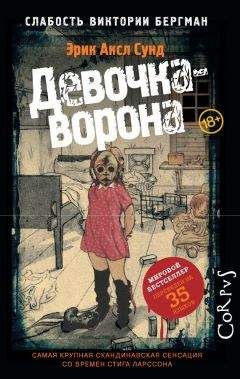Эрик Сунд - Слабость Виктории Бергман (сборник)
Послышались шаги – медленный, но решительный стук каблуков по камням. Это означало, что жить ей осталось всего пару минут.
– Конец, – по-русски прошептала она. – Иди ко мне.
Она подумала о своем произведении. У нее не было объяснений ни тому, что она сотворила, ни тому, зачем она сотворила. Искусство само творит себя, необъяснимое, изначальное.
Оно – Творение, детская игра, освобожденная от конкретной цели.
Если бы она не видела смерти братьев во рву Бабьего Яра, если бы ее мать осталась жива и не ушла во время великого голода, она никогда не принудила бы двух братьев-казахов убить друг друга голыми руками и не смотрела бы на их схватку, одетая как ее мать, настоящая еврейка.
Мамзер – это название всего, что она делала. Мамзер – это сожаление, это изгнание, это жизнь и смерть одновременно, застывшие мгновения того, что упущено.
Быть взрослым – это преступление против собственного детства и в то же время отрицание Творения. Дитя не имеет пола, а бесполость ближе к изначальному. Понимать, какого ты пола, есть преступление против Творца всего сущего.
Я насекомое, думала она, слушая шаги у себя за спиной. Шаги замедлились, а потом совсем прекратились. Я многоногое, мириапод, меня нельзя объяснить. Тот, кто поймет меня, должен быть столь же болен, как я. Нет никакого анализа. Предайте меня этой стонущей земле.
Она уже ни о чем не думала, когда пуля пробила ее склоненную голову, но мозг успел зафиксировать шум и хлопанье крыльев, когда птицы взлетели в ночное небо.
Потом – темнота.
Дала-Флуда
Выйдя из воды и вытершись, она еще несколько часов просидела на берегу озера. То, что умещалось в маленьком замкнутом помещении, расплылось теперь по площади в сто квадратных метров, если не больше. Сначала было похоже на кувшинки, теперь же в темноте виднелись только одиночные вкрапления.
Кое-какие бумаги прибило назад, к берегу. Может, непонятные тексты из какой-нибудь книги, может, фотографию из газеты или записи о Гао Ляне или Солес Эм Нат.
Потом будет весна, и эти бумаги тоже растворятся в песке или на дне озера.
Когда она ехала назад через поселок, снег перестал. Не удостаивая дома даже взгляда, она сосредоточилась на дороге, которая вилась через лес, уходя на юг.
Скоро снег исчез с дорожного полотна, хвойный лес сменился смешанным – березы и клены чередовались с соснами и елями. Ландшафт стал более плоским, грузовик летел по асфальту, как перышко.
Она оставила тяжесть позади, и теперь колеса вертелись быстрее. У нее больше не было багажа, который надо тащить с собой, а если подумать, то у фирмы по прокату машин есть филиалы по всей стране, так что при желании можно оставить грузовик в Сконе.
Она чуть превышала допустимую на сельской дороге скорость, но не потому, что куда-то торопилась. Сто километров в час – хорошая скорость для медитации.
У нее было с собой все необходимое. В сумке – кошелек, водительские права и кредитная карточка, а также смена белья. На пассажирском сиденье с подогревом сохло мокрое полотенце.
О деньгах беспокоиться не надо, она едва тронула родительское наследство, плата в жилищный кооператив перечислялась через платежный сервис автоматически.
Она приближалась к Фагерсте. Если она продолжит ехать по шоссе номер 66, то вернется в Стокгольм в течение пары часов. А шоссе номер 68 вело на юг, к Эребру.
Она остановила машину в “кармане” в нескольких километрах от развилки.
Впереди – дом, позади – то, что было. Если она отклонится от намеченного маршрута, другая дорога приведет ее к чему-нибудь новому.
Путешествие без цели. Она заглушила мотор.
За последние несколько недель она успешно сбросила с себя свою прежнюю жизнь. Уничтожила ее, разобрала на мелкие части и выбросила то, что было не ее. Фальшивые воспоминания оказались сдвинуты, и выкристаллизовались воспоминания скрытые.
Она достигла беспримесной ясности.
Катарсис.
Она не будет больше давать имена своим способностям, не станет отдаляться от себя самой, создавая другие я. Она освободилась от всех них: от Гао Ляня, Солес Эм Нат, Трудяги, Аналитика и Зануды, Рептилии, Лунатика и Девочки-вороны.
Никогда больше она не будет прятаться от жизни, не позволит искусственно созданным персонажам брать на себя тяжелые переживания.
Все, что происходит, отныне касается только Виктории Бергман и никого больше.
Она видела свое отражение в зеркале заднего вида. Наконец-то она чувствовала себя самой собой, это не было неестественно покорное лицо, которое она носила, когда решения принимала София Цеттерлунд.
Это лицо все еще было молодым, она не видела на нем следов сожаления, следов жизни, полной мучительных воспоминаний.
Это означало, что она приняла наконец все, что с ней случилось.
Детство и юность были такими, какими они были. Адом.
Она снова завела машину и вырулила на дорогу. Километр, два километра; наконец она свернула направо, на юг. Последние сомнения оставили ее под шум черного леса, проносящегося за окнами машины.
Отныне она не будет строить никаких планов.
Ничему из прошлого с этой минуты нет места в ее жизни. Прошлое сформировало ее такой, какая она есть сейчас, но ее история никогда больше не будет отравлять ее. Никогда не повлияет на жизненный выбор и будущее. Она не обязана отвечать ни перед кем, кроме себя самой, и она понимает: решение, которое она приняла в эту минуту, изменит всю ее жизнь.
Очередной щит с названием очередного населенного пункта, но она продолжала ехать прямо, думая о Жанетт. Будешь ли ты скучать по мне?
Будешь, но ты это преодолеешь. Так всегда бывает.
Я тоже буду скучать по тебе, думала она. Может быть, я даже люблю тебя, но еще не знаю, по правде ли это. Так что лучше я отступлюсь.
Если это настоящая любовь, я вернусь. Если не вернусь – значит, так тому и быть. Тогда мы будем знать, что это не то, во что стоит вкладываться.
Она ехала через вестманландские леса. Начинало светать. Лес и опять лес, с перерывами на просеку или какой-нибудь луг или поле. Она проехала Риддархюттан – единственный поселок на этом отрезке пути, и когда снова начался лес, она решила довести дело до конца. Разрушить все, от всего избавиться.
Она посмотрела на часы. Четверть девятого, значит, Анн-Бритт уже на месте. Она достала мобильный и набрала номер приемной. Анн-Бритт ответила после пары гудков. Виктория перешла прямо к делу, сообщив, что закрывает практику. Она поинтересовалась, есть ли какие вопросы, – ей была немного любопытна реакция Анн-Бритт.
– Нет. Я не знаю, что сказать, – немного помолчав, ответила секретарша. – Известие несколько неожиданное, мягко говоря.
– Вы будете по мне скучать? – спросила Виктория.
– Буду. – Анн-Бритт кашлянула. – А можно спросить, почему вы прекращаете практику?
– Потому что могу, – ответила Виктория. Сейчас этого объяснения вполне достаточно.
Они простились. Пряча телефон, она нащупала в кармане ключи.
Достала связку, подержала перед собой. На тяжелой связке висели все ее ключи. От кабинета, от всего, что относилось к дому на Боргместаргатан. Ключ от квартиры, ключ от кладовки, ключ от прачечной и еще один ключ, про который она не помнила, от чего он. От чулана с велосипедами, наверное.
Она опустила стекло и выкинула всю связку.
В зеркало заднего вида было видно, как связка ударяется об асфальт встречной полосы, а потом исчезает в канаве.
Виктория оставила окно открытым, и по кабине пополз холод.
Она не спала почти двое суток, но не чувствовала и признаков усталости.
Виктория взглянула на телефон. А с ним что делать? Он содержит только массу требований, номера, которые отвлекают, и календарь с множеством назначенных встреч, которые Анн-Бритт теперь придется отменить. Телефон стал бессмысленным.
Она приготовилась швырнуть его в окно, но передумала.
Держа одну руку на руле, второй она набрала короткое сообщение Жанетт. “Прости”, написала она, въезжая на мост.
Телефон со стуком ударился о перила моста, скрылся в темной воде, и больше Виктория Бергман его не видела.
Собор Св. Софии
Мадлен сидела на скамейке в негустой тени какого-то лиственного дерева; на ветках расселись черные птицы. Солнце грело, хотя осень была в разгаре, золотые купола огромного монастыря сверкали на фоне синего неба.
По дорожке перед Святой Софией шли бесцветным тихим потоком люди, а зрительное впечатление от собора было – белое, зеленое и золотое.
Она надела наушники и включила радио. Слабое потрескивание, потом приемник поймал канал, на котором говорили по-украински. Заиграл баян, потом – духовые и барабан, быстро выбивающий нечто вроде скрещения клезмерской музыки и истеричной попсы. Контраст между музыкой и спокойствием этого пятачка перед монастырем был как ее собственная жизнь.