Полина Дашкова - Золотой песок
Вспышка разрывала темноту, ветер шумел, раскачивал верхушки сосен с такой силой, что казалось, сейчас сметет все – лес, реку, братскую могилу, Никиту с фотокамерой, лесничиху Клавдию Сергеевну. Гул нарастал, дрожал в ушах.
– Вертолет! – услышал Никита отчаянный крик. – Отходи, беги к лесу!
Он оторвал камеру от лица, ошалело огляделся. Сзади совсем низко, над верхушками сосен, плыли прямо на него белые огромные огни. Он стоял на открытом пологом берегу и не мог дышать. Ноги по щиколотку увязли в ледяной раскисшей земле.
– Беги, сынок! – кричала лесничиха, но слабый голос сел от первого крика, и получался хриплы и шепот, который Никита не мог расслышать из-за шума ветра и гула мотора. К лесу он рванул инстинктивно просто потому, что надо было спрятаться от этих белых наплывающих огней. Рванул и, конечно, не заметил как упала яркая глянцевая обертка от кодаковской фото пленки.
– Ну все, миленький, все, сынок, успокойся, – лесничиха жесткой шершавой ладонью провела по его щеке, – сейчас до дома дойдем, чайку горячего… чайку тебе надо. И спирту. Утром доведу тебя до шоссе, на попутке доберешься до Помхи, оттуда сразу на катере до Колпашева. В Желтый Лог не возвращайся. Не знаю, видели они тебя или нет, но лучше не возвращайся.
Он не помнил, как дошел до дома лесничихи. Дрожал огонек керосинки, в печке весело потрескивали дрова. Старуха протянула стакан, зубы стучали о край. От спирта дрожь и тошнота немного отпустили.
– Носки надень шерстяные, простудишься… Он послушно разулся, отдал старухе тяжелые, намокшие кроссовки.
– Вещи какие остались у батюшки?
– Нет, все с собой…
– Ложись-ка, залезай на печку. Эка трясет тебя… Спи. Вот, хлебни еще и спи. Завтра уходим с тобой рано, на рассвете. А то ведь могут сюда заявиться, нелюди. Вдруг заметили с вертолета.
Он сделал последний глоток спирта и провалился в тяжелый, обморочный сон, как в ледяное болото. Ему снились белые слепые огни, снилась страшная братская могила.
На рассвете старуха разбудила его, напоила чаем. Она опять стала молчаливой и неприветливой. До шоссе дошли за два часа. Никакой погони не было, казалось, его появление на берегу Молчанки так и осталось не замеченным. Но он отдавал себе отчет, что это только сейчас так казалось.
Прощаясь с лесничихой, он протянул ей деньги, пятьсот рублей.
– Спаси Господи, – она взяла, не считая, и, помолчав, пожевав губами, добавила еле слышно:
– знать бы имена этих убиенных, помолиться бы за упокой.
– Два имени я знаю. Оксана и Станислав, – медленно произнес Никита, – может, все-таки мне в милицию пойти, когда до города доберусь?
– Не надо, сынок.
– Почему?
Она долго молчала, покряхтывала, шамкала запавшим беззубым ртом, потом произнесла:
– Я помолюсь за Оксану и Станислава. Им вечный покой, тебе здравие и сил побольше. Будь осторожней, сынок. Нигде не задерживайся. Улетай отсюда. Храни тебя Господь, – она быстро перекрестила его и ушла, исчезла в тайге, не оборачиваясь.
Машин на шоссе не было. Никита побрел в сторону Помхи, и только через полчаса подобрал его грузовик-лесовоз и доставил за полтинник почти до самой помховской пристани.
Катер пришел довольно скоро. Никита курил на задней палубе, глядел, как солнечный свет преломляется в мельчайших водяных брызгах, и мчится вслед за катером тонкая яркая радуга, мчится, от Помхи, мимо Желтого Лога, до самого Колпашева.
Он попытался на свежую голову понять, где и как мог наследить. Паспортные данные в колпашевской гостинице да болтливая сноха. Все. С вертолета его вряд ли успели заметить. Старики, конечно, будут молчать. Про глянцевую обертку от фотопленки он даже не вспомнил.
И все-таки он был почти уверен, что не выберется, не долетит до Москвы. Но выбрался и долетел. Видно, хорошо молились за него лесничиха Клавдия Сергеевна, да еще отец Павел со своей матушой, Ксенией Тихоновной.
* * *В метро хорошо, тепло. Иногда можно даже вздремнуть на лавочке, перед въездом в туннель, или хотя бы просто посидеть, дать отдых ногам и спине. Но не в рабочее время, конечно. Если хозяйке стукнут, это ничего, она тетка не строгая. Ей все равно, сколько часов ты работаешь, сколько спишь. Главное, норму выполняй.
Самое рабочее время – позднее утро, ближе к полудню, и вечер, после девяти. А в часы пик можно и поспать. Все равно в вагон не влезешь. Да и люди злее в толпе. Орут, толкаются. Вот когда сидят свободно, газетки почитывают, тогда самое оно. Тогда не спи, работай.
– Граждане пассажиры, извините, что обращаюсь к вам. Мама умерла, нас осталось у старенькой бабушки пятеро. На хлеб не хватает. Подайте, Христа ради, сколько можете, – Ира произносила свой текст громко, выразительно, нараспев. Она знала, что если слишком уж канючить, пускать сопли, эффект не тот. Надо делать вид, будто тебе стыдно просить.
Впрочем, у каждого свои методы. Борька-цыган сразу падает на коленки, хватает пассажиров за ноги. Выберет тетку потолще и вперед. «Те-тенька, ку-шать хочу, да-айте сиротке на хлебушек!» Борьке дают, но мало. Не из жалости дают, а чтоб отстал поскорей, пальто не испачкал своей сопливой мордой.
Ира на коленках не ползает, а получает больше. Ей-то как раз дают из жалости. У Иры главный козырь – младенчик за спиной. Она сама маленькая, в свои четырнадцать выглядит лет на десять, а тут еще сосунок к спине привязан, чумазый, бледный. Хорошо, если совсем маленький, легкий. Но иногда доставался Ире ребенок постарше, годовалый, не меньше десяти кило.
Их меняли примерно раз в месяц. Сначала Ире было жаль сосунков, все пыталась подкормить, закутать потеплей. Глупая была. Не понимала, что жалеть надо только себя, и больше никого.
Сосунков подбирали на вокзалах, иногда покупали до дешевке у опустившихся проституток, пьянчужек, у девчонок, которые с детства на иглу подсели и ничего уже не соображают. У хозяйки глаз наметан, если видела, что у какой-нибудь оторвы пузо растет, сразу аванс выдавала. А кто может родиться у оторвы? У нее спирт вместо крови.
С утра сосунков поили молоком, в которое хозяйка добавляла жидкую «дурь» или толченые «колеса». Это чтобы спали, не орали. Если сосунок орет, работать невозможно. Пассажиры злятся, раздражаются.
Попадались младенчики такие слабые, что спали весь день сами по себе, без всяких добавок. Тоже экономия. Хозяйка денежки аккуратно считала. «Колеса» денег стоят, а «дурь» тем более. Но, с другой стороны, слабые жили совсем мало. Ира боялась таких брать. Однажды сосунок помер прямо у Иры за спиной. Было страшно таскать на себе мертвяка, но куда денешься? Пока не выполнена дневная норма, надо ходить по вагонам. У самой коленки тряслись, вдруг кто заметит, что сосунок не дышит. Но ничего, обошлось.
Сейчас у Иры за спиной была девчонка годовалая, здоровенная, как кабанчик. Дергалась во сне, колотила ногами. Ира тяжело ступала по вагону, согнулась пополам, заглядывала в глаза пассажирам и все время беспокойно косилась на новенького пацана. Хозяйка велела присматривать за ним. Он странный был, вялый, тощий и совсем дурачок. Говорить не мог, смотрел в одну точку, но команды понимал и выполнял аккуратно. Скажешь ему:
– Иди, руку протяни, тебе туда денежку кинут. Ты эту денежку потом мне отдашь.
Подобрали его два дня назад на Казанском вокзале. Сидел в углу, прямо на полу, в полном отрубе. Ира его первая приметила, стала крутиться, наблюдать. Поблизости никого взрослых нет. Может, потерялся, а может специально оставили.
Таких больших редко оставляют. Бросают в основном сосунков, которые следом не побегут. Ира все ждала, вдруг по радио объявят, мол, внимание, потерялся мальчик. Тогда надо сразу уходить от него подальше, не вертеться. Но ничего такого не объявляли. Значит, никто не ищет. Не нужен никому.
Пацан одет был хорошо, курточка дорогая, джинсы, ботинки, все как у домашнего ребенка. На вид лет восемь, но это из-за худобы. На самом деле больше. Ира на его куртку запала. Она давно мечтала о такой, теплой, легкой, не на вате или там синтепоне, а на настоящем пуху. И главное, пацан в полном отрубе, вокруг никого. Подходи и снимай. Ира уже на корточки перед ним присела, в лицо заглянула, окликнула:
– Эй, малахольный, ты чего?
Ни малейшей реакции. Глаза закрыты, сам бледно-зеленый. Может, «дури» накачался или вообще больной. Хоть догола раздевай, не почует. Она уже и «молнию» легонько потянула, но тут, как назло, Борька-цыган подскочил, а за ним дед Косуха, который у хозяйки в «шестерках» ходит. Она заволновалась, испугалась, что курточка ей не достанется, сразу на Борьку цыкнула:
– Пуховичок мой, учти. Тебе он все равно велик.
– Убью, заязя! – весело ответил Борька и убежал по своим делам.
Все у него были «заязи» (он "р" не выговаривал), и всех он грозил убить, правда, без злобы, просто такая у него присказка была.
Малахольного подняли под локотки, повели потихоньку. Никто ничего не заметил. Менты шныряли по залу ожидания, но смотрели мимо.

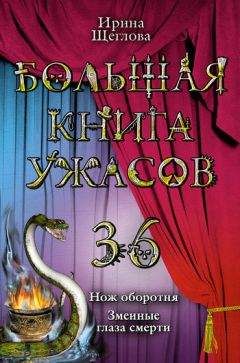
![Харлан Эллисон - Время глаза [Время ока]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)
