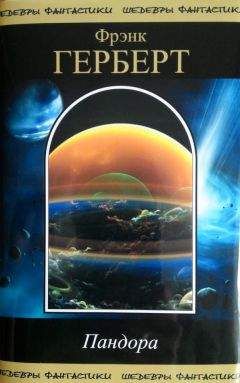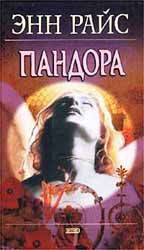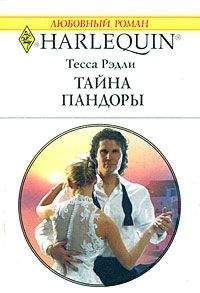Александр Егоров - Пентхаус
Он держит ее руки. Эта коза не кричит, а только хрипит. Вот она пробует освободиться: это она притворялась, ага. Он коротко бьет ее куда-то в мягкое. Под ними какие-то тряпки, и что-то мокрое там, под его руками.
Охренеть. Да тут же все мокро. И он это сделал.
«Все нормально, — говорит он чуть позже. — Скажешь кому — убью. Дура».
А потом свет включается, и тут ему становится противно. Она такая уродливая. У нее из носа течет кровь.
Когда он бьет ее с ноги, девчонка сгибается и прикрывает голову руками. С-сволочь.
Странно: когда она склоняется перед ним и хнычет от боли, у него встает опять. Хотя чего тут странного, — думаю я. Пятнадцатилетний зверь. Родители много чего не знают о своих детях.
А если бы я…
Если бы я был отцом этой девчонки? Что бы я сделал с этим у…бком?
Спокойно, доктор. Спокойно.
Я открываю глаза. Жирный взрослый гнусный Жорик пристегнут к дыбе кверху брюхом. Под простынкой вздымается его маршальский жезл. Взлетает кверху над плоскогорьем Америки, как «Челленджер» с космодрома на мысе Канаверал. Вот-вот взорвется. Но я знаю по опыту: пока руки астронавта пристегнуты, полет будет нормальным.
К сожалению, я давно привык к таким картинам. Я дотрагиваюсь до пульта. Пациент мало-помалу возвращается из своего космоса.
— Ф-ф-у-ух, — шумно выдыхает Георгий Константинович. — Не, ну бывает же такое. Слушай, Артем… Как у тебя это все получается?
— Для меня главное — чтобы у вас получалось, — говорю я ровным голосом.
Артем — это мое имя. Артем Пандорин, психотерапевт-консультант. Полторы тысячи у. е. за серию сеансов борьбы с внутренними тараканами.
Иногда я представляю себе этих тараканов. Как они ползают по внутренней стороне черепной коробки и ищут выхода.
Я не спеша высвобождаю запястья клиента.
— Сеа-анс, — оценивает Георгий Константинович. Его руки моментально под простынкой. Не стесняясь, он довершает начатое.
Магию нельзя разрушать. Еще долго у него перед глазами будут стоять туманные образы детства. Вечером он поедет к своей любовнице. Какая-нибудь идиотка с платного филфака. Она подбреет себе пилотку и надушится вечерним Jean-Paul Gaultier, полагая, что это лучший парфюм для богатого папика. Дура. У него в памяти остался запах нафталина.
Он ударит ее наотмашь, и она взвизгнет от неожиданности. Ей будет больно, а у него, наконец, встанет. И это я прочистил ему мозги — и все остальное заодно. Я, Артем Пандорин. Санитар большого бизнеса.
Я хочу, чтобы всем было понятно: в санитары не идут от хорошей жизни. Есть сразу несколько причин, по которым я вынужден заниматься тем, чем я занимаюсь. Это не значит, что я полностью согласен с происходящим.
Георгий Константинович — согласен. Он грузно соскакивает с пыточного кресла, завернувшись в простынку, как патриций. Да что там — как сам Цезарь!
На причинном месте — мокрое пятно.
— Пять минут, полет нормальный, — объявляет он, и я вздрагиваю. — Отлично, доктор. Я не это… я не разочарован.
Он достает трубку и невозмутимо делает пару звонков. Он уже в брюках. В белых, льняных.
Прощаясь, он лучезарно улыбается, и некоторое время после я пытаюсь расшифровать эту улыбку. Потом мне надоедает это занятие.
Тем временем Лида готовит мне капуччино. За дверью швейцарская кофеварка шипит, и плещет, и наконец кончает. Я любуюсь Лидкой. Она грациозно склоняется, ставит кофе на низкий столик. Мне двадцать семь, и я совершенно здоров. Я почти не устал. Я могу ее трахнуть. И она это знает.
— Этот Георгий Константинович такой страшный, — говорит Лидка.
— Почему же он страшный?
— Не знаю. Меня трясет от него.
Трясет? Я не могу себе такого позволить. Иногда это очень трудно. Мои клиенты — темные люди. Потоки их темного сознания обтекают меня, как легионы тараканов, льющиеся змеями сквозь пустые глазницы их черепов. Пушкин, опять Пушкин, будь он неладен.
На Лиде отдыхает мой взор.
— Присядешь? — спрашиваю я. И указываю глазами на кресло напротив. Кто-то из клиентов поумнее обозвал это кресло «гарротой». Я полез в википедию и удивился.
Лидка глядит на гарроту и морщится. Но глаза у нее веселые.
— Это без меня, — говорит она. И уходит, посмеиваясь.
Она такая классная.
* * *Вечер. Я лечу по транспортному кольцу, изредка поглядывая в зеркала. Закат разлился на полнеба, и сиреневые облака как будто вышиты на алой подкладке. Здесь темнеет быстрее, чем там, где я родился, зато и закат вон какой красивый. День — это день, ночь — это ночь. Я люблю Москву.
Москвичей я тоже люблю. За их мысли, за их «бентли», за их тарифы. Моя «мазда» — это не «бентли», конечно. Она сама похожа на небольшого черного таракана. Она бесшумно скользит в потоке других таких же, ныряя в освещенные туннели и вырываясь на свет, — выпущенная где-то в Японии аэродинамичная глянцевая пуля. Гламурная сестренка «форда».
Но вот по сторонам вырастают дома, и я сворачиваю направо, туда, где ремонт, мимо дорожных машин и мужиков в желтых жилетках. В глубине улиц становится темнее. Спешить больше некуда.
Тем более что Маринка стоит на автобусной остановке, с ней рядом — какой-то мудила лет тридцати, с банкой пива, в джинсовой куртке. Пролетарий на отдыхе. Вздохнув, я притормаживаю и опускаю стекло. Даже не оглянувшись на пролетария, Маринка идет к моей машине. Господи, какая она милая, думаю я в очередной раз. Если бы не эта крашеная челка и узкие брючки-стретч. А может, именно из-за них, не знаю.
— Них…я себе, — комментирует пролетарий. Мы обмениваемся взглядами, и он останавливается в полупозиции. А потом я уже смотрю на Маринку, и только на нее.
— Привет, — говорит она мне. Садится и захлопывает дверцу.
Она станет очень красивой, если вырастет. Ей нет шестнадцати, хотя она всем говорит, что есть. Это ее вранье обычно для интернатских девчонок, которые врут взрослым, что уже достигли возраста согласия (кроме тех, что врут, что не достигли).
— Как у тебя дела? — спрашивает она.
Я гляжу вперед, на дорогу. Но чувствую, что она смотрит на меня, чуть заметно улыбаясь.
— Как всегда, — отзываюсь я. — Вправлял мозги кое-кому.
Она улыбается. Ее подруги вовсе не умеют улыбаться. Они либо ржут как лошади, либо тупо молчат. У них мимика шимпанзе. Но Маринка — особенная.
— А я вышла тебя встречать, — говорит она.
Мне внезапно хочется остановиться и поцеловать ее. Я торможу — несколько более нервно, чем нужно, и сзади сигналит какая-то ржавая банка, объезжает нас и с натужной вонью удаляется.
У Маринки холодные губы и холодный нос. Она жует мятный «стиморол». Она замирает, затаив дыхание, когда я прижимаю ее к себе.
Если это не круто, тогда в моей жизни вообще не было ничего хорошего.
Мы познакомились с ней при самых печальных, в высшей степени трагических обстоятельствах. Ее мать попала под грузовик, когда ей едва сравнялось тринадцать, и совет попечителей (пятеро климактерических мегер, одна из которых была директором ее школы) присудил отдать ее в интернат. Квартира в Кунцево подвисла, и можно было предполагать худшее: маринкина глухая тупая мухосранская бабка мало что понимала в гражданской обороне и вообще уже мало что понимала.
Подруга, с которой я тогда встречался, служила в инспекции по делам несовершеннолетних. Однажды меня угораздило отправиться с ней на выезд. Интернатское начальство заявило о побеге воспитанницы, и нужно было утомительно долго оформлять документы. Так я впервые услышал про Маринку Парфенову. Глянув краем глаза на фотографию, я только усмехнулся. Сопливая шлюшка-недокормыш, решил я. Ее участь казалась мне абсолютно ясной. Завтра ее подхватят где-нибудь на вокзале, вернут в интернат и посадят на хлеб и воду. Через три года подсадят уже на героин и трудоустроят на работу под железнодорожным мостом, в дружном коллективе таких же.
Я еще раз взглянул на фотку.
«Вколотили девчонку ниже плинтуса, — вполголоса сказала моя подруга. — На квартиру кинули. Зла не хватает. А ведь в музыкальной школе училась».
Помню, тогда я пожал плечами.
Моя жизнь тогда была совсем не та, что теперь. Я пару лет назад окончил универ, и мой тогдашний работодатель доктор Литвак, психоаналитик, поручал мне несложных клиентов. Это был благообразный умный еврей со своими тараканами в голове. Так, он уверял: совершенно неважно, рассказывает ли пациент правду о себе или лжет. Более того, его правда существует лишь в его сознании, и эта правда — всего лишь анамнез болезни. «Откуда же я узнаю, в чем причина на самом деле?» — спрашивал я. Михаил Аркадьевич прикрывал глаза и устало улыбался. «Ты сам увидишь», — отвечал он.
Теперь-то я понимаю, что он имел в виду.
Итак, я работал на Литвака, ездил на «фиесте» и встречался с инспектором по работе с несовершеннолетними. Когда моя подруга привела домой беглую Маринку, я изумился, но не слишком.