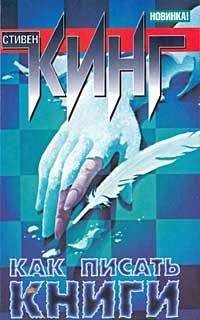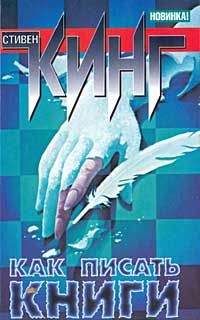Стивен Кинг - Долорес Клэйборн
Вот это меня и охладило. Внутренний глаз не закрылся, но словно потускнел и поутратил силу. Я хотела разжать пальцы и выпустить полено, но я их так сжимала, что они меня не слушались. Пришлось другой рукой отогнуть два пальца, и только тогда оно упало в корзину. А остальные три пальца так согнутыми и остались, будто еще держат его. Раз пять я их сжимала и разжимала, прежде чем рука опять нормальной сделалась.
А тогда я подошла к Джо и потрогала его за плечо.
— Мне с тобой надо поговорить, — сказала я.
— Ну и говори, — отвечает он из-за газеты. — Я тебе не препятствую.
— Я хочу, чтоб ты на меня смотрел, — говорю. — Отложи газету.
Он опустил газету на колени и посмотрел на меня.
— Ну, уж ты своему языку отдыха ни на минуту не даешь, — говорит.
— Свой язык я сама уйму, — отвечаю, — а вот ты уйми свои руки. Не то они тебе наделают неприятностей, до Судного Дня не расхлебаешь.
Он вздернул брови и спрашивает, о чем это я.
— А о том, чтоб ты оставил Селену в покое, — говорю.
Он поглядел на меня так, будто я саданула его коленом по фамильным драгоценностям. Самая лучшая из скверных минут, Энди, — выражение на роже Джо, когда сообразил, что все вышло наружу. Кожа у него посерела, рот открылся, а туловище в его дерьмовой качалке дернулось, как бывает с людьми, когда они уже засыпают и вдруг подумают о чем-нибудь скверном.
Он попытался сделать вид, будто ему просто спину прихватило, но не обманул ни себя, ни меня. И вроде бы он даже устыдился, но по мне и у дворняги хватит ума устыдиться, если ее поймать, когда она яйца из курятника ворует.
— Не понимаю, что ты такое говоришь, — бурчит он.
— Тогда почему ты такую рожу скроил, будто дьявол тебе яйца выкручивает? — спросила я.
Тут он прямо почернел.
— Если этот пащенок Джо Младший врет про меня… — начал он.
— Джо Младший про тебя ни словечка не сказал, — говорю. — И брось комедию ломать, Джо. Мне Селена сказала. Все мне рассказала. Как хотела скрасить тебе жизнь, когда я тебя сливочником ударила, как ты ей отплатил и чем пригрозил, чтоб она молчала.
— Лгунья она желторотая! — кричит он и сбрасывает газету на пол, будто в доказательство. — Лгунья и приставала. Вот возьму ремень и, когда она заявится сюда… если посмеет…
Он было приподнялся, но я ладонью снова его усадила. До чего же просто — опрокинуть человека, который встает с качалки, я даже удивилась. Ну да за три минуты до этого я чуть не разбила ему башку поленом, так, может, силы у меня и прибавилось.
Глаза у него в щелки сощурились, и он сказал, чтоб я не дурила.
— Один раз у тебя вышло, — говорит, — но не думай, будто тебе это снова с рук сойдет, если опять попробуешь.
Я ж сама так подумала и всего минуту-другую назад, но не сообщать же ему про это было!
— Бахвальство для своих дружков оставь, — вот что я сказала. — А сейчас помолчи и послушай… и постарайся, чтоб до тебя дошло, я ведь серьезно говорю. Если ты опять попробуешь что-нибудь с Селеной, я тебя в тюрьму засажу за развращение малолетней или за попытку изнасилования — это смотря какое обвинение тебя наподольше упрячет.
Это его оглоушило. Опять у него рот разинулся. Сидит и смотрит на меня.
— Да никогда ты… — начал он было и осекся, понял, что я так и сделаю. Тут он разобиделся, выпятил нижнюю губу и прохныкал: — Так ты на ее сторону стала, Долорес? Даже не выслушала мое объяснение.
— А тебе есть что объяснять? — говорю. — Когда мужик, которому через четыре года сорок стукнет, просит свою четырнадцатилетнюю дочку снять трусики, чтоб он посмотрел, много ли волос на ее киске выросло, по-твоему, ему есть что объяснять?
— Ей через месяц пятнадцать будет, — заявляет он, будто это что-то меняло. Да уж нещечко он был поискать.
— Сам-то ты хоть слышишь, что говоришь? — спрашиваю я его. — Слышишь, что твой собственный язык болтает?
Тут он опять на меня уставился, потом нагнулся и подобрал газету.
— Отвяжись, Долорес, — говорит он самым своим обиженным — «ах я бедненький» — голосом. — Я хочу дочитать статью.
Ух, как мне хотелось вырвать у него газету, порвать в клочья да швырнуть их ему в рожу! Ну да только тогда дело могло бы и до крови дойти, а я не хотела, чтоб дети — а Селена особенно — вошли и увидели драку. А потому я только руку протянула и легонечко так большим пальцем отогнула лист.
— Сперва ты пообещаешь мне оставить Селену в покое, — говорю, — чтоб мы могли забыть про эту пакость. Обещай, что до конца жизни не притронешься к ней так.
— Долорес, да ты что… — начал он.
— Обещай, Джо, не то я из твоей жизни ад сделаю.
— Думаешь, испугала? — орет он. — Ты из моей жизни ад пятнадцать лет как делаешь, стерва чертова! Хоть морда у тебя безобразная дальше некуда, но характерец еще безобразнее! Не нравится, какой я, так себя вини!
— Ты понятия не имеешь, что такое ад, — говорю, — но узнаешь, если не обещаешь оставить ее в покое. Уж я позабочусь!
— Ладно! — завопил он. — Ладно! Обещаю! Ну, хватит с тебя? Довольна теперь?
— Да, — говорю, хоть мне этого мало было, но я знала, что ждать мне от него больше нечего. Пусть бы он даже сотворил чудо с хлебами и рыбами. Я решила до конца года либо увезти детей из этого дома, либо увидеть его в гробу. Так или эдак — для меня разницы не составляло, но я не хотела, чтоб он о чем-нибудь догадался, пока не будет уже поздно.
— Хорошо, — говорит он. — Значит, все в порядке, похоронено и забыто, а, Долорес? — Но я заметила у него в глазах огонек, и, ох, как мне он не понравился. — Думаешь, какая ты умная, а?
— Уж не знаю, — говорю. — Прежде мне казалось, что я умом не обижена, но только погляди, какое дерьмо я кормлю и обстирываю.
— Ну зачем так, — говорит и все смотрит на меня все так же хитренько. — Ты же себя таким горячим говном воображаешь, что, небось, когда подтираешься, так проверяешь, не дымится ли бумажка. Да только не все ты знаешь.
— Ты о чем?
— А ты догадайся, — отвечает и разворачивает газету, будто толстосум, которому не терпится проверить, не подложила ли ему биржа свинью. — Такой умнице же это раз плюнуть.
Не понравилось мне это, но я промолчала. Отчасти не хотела весь день ворошить палкой осиное гнездо. Но еще и потому, что правда верила, будто умна — и уж в любом случае поумнее его. Вот так. И решила, что, задумай он против меня что-нибудь, я угляжу через пять минут, чуть он начнет. Гордыня это была, другими словами. Гордыня и ничего больше, а что он уже начал, мне и в голову не пришло.
Когда дети вернулись с покупками, я отослала мальчиков в дом, а мы с Селеной пошли на задний двор. Там ежевика росла, густо так, листья все уже почти осыпались, и ветки под ветром шуршали и перестукивались, жуткий такой звук, тоскливый. Из земли там торчал белый валун, и мы сели на него. Над Восточным мысом повис месяц, и когда она меня взяла за руку, пальцы у нее были холодные, прямо как этот месяц.
— Я боюсь войти в дом, мамочка, — говорит она, а голос у нее дрожит. — Я пойду к Тане, хорошо? Ну, позволь?
— Бояться тебе нечего, родная, — говорю. — Все улажено.
— Я тебе не верю, — шепчет она, а по ее лицу видно, что поверить-то ей очень хочется. Больше всего на свете.
— Нет, это правда, — говорю. — Он обещал оставить тебя в покое. Ему на свои обещания плевать, но это он сдержит, потому как знает, что я буду за ним следить, а ты не промолчишь, если что. Ну и перепуган он насмерть.
— Перепуган нас… почему?
— Я ему сказала, что упрячу его за решетку, если он опять возьмется за свои пакости.
Она охнула и опять вцепилась мне в руку.
— Мамочка, не могла же ты!
— Еще как могла. И я его всерьез предупредила, — говорю. — Лучше, чтоб ты это знала, Селена. Да ты успокойся… Ближайшие четыре года Джо к тебе навряд ли сунется… А тогда ты в колледж уедешь. Если в этом мире он хоть что-то уважает, так это свою шкуру.
Она отпустила мою руку, медленно, но уверенно, и я увидела, что в глазах у нее появилась надежда. И еще кое-что. Словно к ней юность возвратилась, и только тогда, сидя с ней в лунном свете у ежевики, я вдруг поняла, какой погасшей, будто старуха, выглядела она этой осенью.
— Он меня бить не будет? — спрашивает она. — Ремнем?
— Нет, — говорю. — С этим покончено.
Тут она поверила, положила головку мне на плечо и заплакала. От облегчения, от радости и только. Но от таких ее слез я еще больше Джо возненавидела.
Думается, в следующие ночи у меня в доме была девочка, которая в первый раз после трех месяцев спала спокойно и сладко… Зато я лежала без сна. Слушаю, как Джо рядом храпит, смотрю на него этим внутренним глазом и просто готова повернуться и перегрызть ему горло чертово. Но я уже не бесилась, как когда чуть не пришибла его поленом. Думала о детях, о том, что с ними будет, если меня арестуют за убийство, — тогда-то эти мысли никакой власти над внутренним моим глазом не имели, но попозже, чуть я сказала Селене, чтоб она больше не тревожилась, и сама поостыла, возобладали они. Но я все равно знала, что Селене одного хочется — чтобы все по-прежнему шло, будто ее отец ничего такого не затевал. А этого быть никак не могло. Пусть бы он даже сдержал обещание и пальцем ее больше не тронул, все равно не могло… И хотя Селену я успокаивала, сама-то я не очень верила, что он его сдержит. Рано или поздно люди вроде Джо убеждают себя, что в следующий раз у них все получится: надо только поосторожней, и все будет по-ихнему…