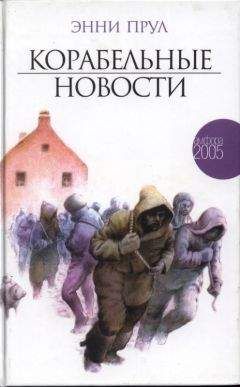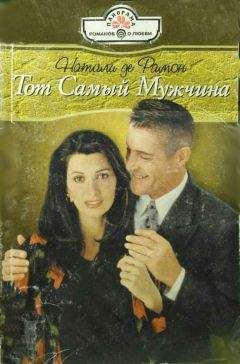Елена Костюкович - Цвингер
Вот-вот, в котору камору запроторили картины аккуратные немцы?
В котору, дед узнал благодаря Георге Ранкинг. Как мы знаем, она отдала Жалусскому немую карту. Как Сима к немке подобрался? По собственному ли почину она указала русским тайный ход? Сама ли сказала, в котору идти камору? Или, ну что там, дед ее пугал? Пытал? Может быть, обольстил? Он, судя по бумагам, арестовал эту немку? Посадили ее в конце концов? Расстреляли? Отпустили?..
Да вот же о ней. Еще один желтоватый и шершавый лист. Это пишет дед. Роман? Дневник? Интеллигентная дама принимает Симу Жалусского вечером, с французским коньяком с разбитого склада, в квартирке, выгороженной из здания «Альбертинума». Состоялось или нет великое слияние, союз душ? Не наше дело. Кто бросит камень. Неужели они часа радости не заслуживают. За столько лет и столько месяцев одиночества, войны.
У Георги новоселье. Георга развернулась в полный декораторский размах. За неделю оборудовала в музее себе квартиру. Нашла где-то путных маляров-альфрейщиков, мраморщиков и паркетных укладчиков. Все они одуревали без работы и были рады поучаствовать в чем-то, что делалось по старым правилам и перворазрядно. Панели прихожей и потолки были отделаны золотистой оливковой древесиной. На подоконники и телефонную нишу пошли обломки красной мраморной отделки вестибюля. Шероховатость и зернистость штукатурки оттенялись на стенах цветом старой слоновой кости. В прихожей висели гуаши — зарисовки Помпеи, которые Георге привезли из Пильница. В углу улыбчивый «Мальчик на дельфине» делла Роббиа, а за письменным столом самая вычурная из бронзовых статуй коллекции, венецианский «Мелеагр» конца XVI века.
Маньеристические скульптуры, гибкие тела. Они, казалось, прибежали в квартиру из пышного сада. Прежний комендант полиции, снова заступивший на работу в Дрездене, прислал Георге на телеге два олеандра выше человеческого роста: красный и белый. Красный затенял цельное окно у письменного стола, а белый стоял у прохода в спальню. Огромная гортензия расположилась у трехступенной лестницы на террасу, где полыхали турецкие бобы. Красный и синий вьюнок оплетал желтые стены. На грядках у стен грудились помидоры, кольраби, посаженный для коллег табак. В углу стояла клетка с кроликами. Во всех проходах подсолнухи, точно часовые.
Над карнизами еще сохранялись остатки старинной росписи со сценами Помпеи. Алебастровая ваза в миртовых кустах.
Что это все-таки? Повезет — скоро поймем. Во Фракии, в Болгарии, в стране, где рекой течет незабвенный «Слнчев Бряг», сбрызнувший московскую Викину любовь, сохранились остальные дневники и записи деда. Они расскажут, что на самом деле происходило в те самые дни. Кто дал ему карту? Георга? Все ли сокровища были найдены? Чем дело кончилось с мелкой пластикой из музея «Зеленых сводов»? Фальсифицировалась ли отчетность? Какая в официальной версии доля правды о случившемся — и доля лжи?
Бумаги, получается, живы. Но как же это могло быть? Те бумаги, что конфискованы у Плетнёва? Болгарка сказала, архив датирован семьдесят третьим годом. А в Киеве плетнёвский архив был арестован КГБ в семьдесят втором. Ошибка даты? Или, ну, кто знает, какой-то другой совместный архив, военный период, общие их дни в Дрездене?
Жалусский и Плетнёв впервые встретились именно в Дрездене. В парке замка Пильниц. Тогда и завязались в узел нити их судеб. Виктор зажмурился — и, не размыкая век, увидел эту сцену знакомства, как в кинохронике.
В тот день перевозили наскоро зафиксированные картины с дрезденских боен в Пильниц. Перевозкой занималась трофейная бригада. Дед с Георгой отправились посмотреть. Георга была под наблюдением, Сима — отстранен. Временно, утешал он себя. Временно налетела орава новых людей. Разберутся, поймут, что и к чему.
— Не копырзись, милый, — вставила советец с небес круглоголовая Ираида.
Первая полуторка с грузом, обогнув дворец, въезжала в подкову двора. Было еще не понятно, какие под картины отведены помещения.
Увидев полевую кухню, солдаты отпросились пообедать.
Присев на лежачий ствол, Сима и Георга глядели, как быстро текла Эльба. В китайском и в горном павильонах, поразивших Симу уродством (коринфские колонны к китайской загнутой крыше?), были выбиты все стекла. Картины свозили и складывали. Окна забивали досками. В конце пильницкого парка торчало непонятно что, оно отцветало, под ним возвышалась гора пурпурных, гофрированных шелковых лоскутов. Знаменитая пильницкая камелия. От жаркого ветра, принесенного сверху из Дрездена, дерево, как им сказали, в этом году цветет подряд два месяца, с марта, изобильными каскадами снова и снова взрывающихся раскидистых пламен.
От въезда, от поверженного ствола Сима перешел в середину сада и увидел чей-то силуэт через частую, в осколках выбитых стекол, решетку китайского павильона. За квадратными переплетами как раз и барствовал, развалившись, Владимир Плетнёв, поджидая свою судьбу, будущего неразлучного друга, почти близнеца, заведя ногу на ногу, откинувшись в плетеном кресле в уродливом «Хинезишес палэ», возвышавшемся на берегу задумчивого пруда без лебедей.
Плетнёв сидел и пил шнапс с королем Силезии Августом-Фридрихом-Вильгельмом.
Брюки у короля были узенькие, в полоску, на руках лайковые перчатки кремового цвета, за спиной, как у всякого добропорядочного немца в то время, болтался, точно горб у голодного верблюда, полупустой рюкзак.
То есть шнапсом угощался Плетнёв, а король, оберегая подкрашенные усы, пил только чай, чай мятный — напиток по тем временам популярный и, как говорили, пользительный для желудка, и дожидался «лебенсмиттель» — подачки из офицерского советского пайка. Попутно король пытался всучить русскому офицеру «для мамы» сделанную собственными руками безвкусную шляпку. Выяснилось, король с королевой содержали шляпную лавку. Беда была только с клиентурой в военные времена и, знаете, бомбежка… Получив отказ, король предложил, чтобы шляпентох примерила Георга, вошедшая с дедом. Кончилось тем, что милосердный дед забрал это уродство у короля за тушенку. Думал — может быть, Лере. Потом, рассмотрев, содрогнулся и, увы, решил не везти шляпу в Киев вместе с остальными трофейными прекрасностями. Огорчительно! Можно было бы сегодня выставить в исторический музей!
Дедик с Лёдиком склеились навсегда в тот день. Написали друг другу прорву писем в сорок шестом, когда Плетнёв еще не был демобилизован и томился в культурном отделе советской военной администрации в Карлсхорсте. Дедовы письма, как и некоторые рукописи деда, хранились дома у Плетнёва и попали в кагэбэшные мешки, когда была обыскана квартира и конфискован беспорядочный плетнёвский архив.
Переписывались и после войны — Жалусский почти не бывал дома, в Киеве. Приходилось ездить по провинциальным фабрикам: в антисемитскую кампанию он лишился работы в театре, зарабатывал промышленной графикой — этикетки, марки. Преимущественно шоколад и наклейки и ярлыки для крымских вин.
А с пятьдесят четвертого дедик с Лёдиком уже «оперились» (перья греют и кормят нас, похохатывал Лёдик), заматерели. Теперь они писали друг другу из домов творчества: Малеевки, Переделкина, Ялты и Дубулт. Это когда ездили порознь. Но они ездили почти всегда вместе. Рвались из Киева, от суетни, погрузиться в рабочий покой. Чуть разместятся, тут же вваливается шумный Лёдик из соседней комнаты, непременно с бутылками в саквояже и со старенькой мамой, ухваченной за подмышку.
На Викину память, как на ногу, налеплена чешуйка. Мокрая раковинка с хвоста русалки. Йодистый хвощ внутри. Рижское взморье. Юрмала, Дубулты. Дед вышагивает по пляжу, опирается, как на трость, на зонт. Зонт дырявит пресный песок. На плече идущего хрипит спидола. Антенна наведена на море. С моря, из Швеции, идет незаглушенный радиогул.
Табун литераторов со спидолами фланирует вечером по штранду. Взрослые обсуждают суд над Синявским и Даниэлем. За что их приговорили, арестованных писателей, шепотом спрашивает Виктор деда.
— А за писательство! Вот письмо в их защиту подписываем.
Совершенно непонятно. А за подписательство? За подписательство не арестуют, часом, Симу и его друзей?
Вика от испуга в полуобмороке. Он помнит Лерины с кем-то разговоры об аресте отца, брата. Слушал из обычного укрытия под столом, как это бывает. Приходят, уводят. Книги сбрасывают. Книги топчут! Остается сирота в одиночестве, несхваченный, потому что под столом не замеченный. Это он, Вика, этот сирота. Под край скатерти вскользнули изуродованные книжки. Тянется к ближайшей, открывает…
Но взрослые уже о чем-то другом хохочут на шестом или седьмом километре вечерней прогулки. Белесая балтийская ночь. Дамы беседуют и о политике, и о практическом: о покупке янтарных брошей-сакт, перчаток зимних, дубльсатина подкладочного. Всей компанией на рижский базар, разместившийся в бывших ангарах для дирижаблей. В этой гомерической декорации голоса почти не слышны, они летят в подкупольное пространство и налипают на витраж. Стекла явно липковатые: копченой рыбой там просадилось все. Вика смотрит с недоумением на стоящую вертикально в сметане ложку. Некрашеную крестьянскую шерсть продают в пасмах. Косматая пасма, с неприязнью обкатывает Вика во рту уродское слово. На рынке Боровскому (или жене Боровского?) приходит идея сделать именно из этой шерсти занавес таганского «Гамлета».